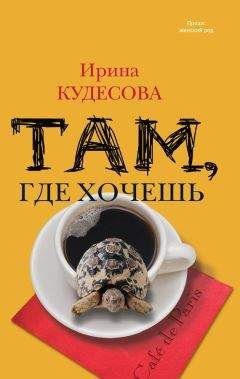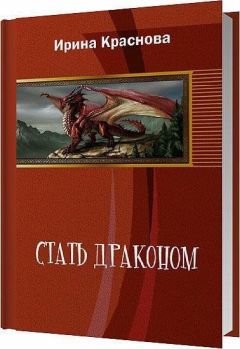Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
— Кэтрин, ну ты же сама знаешь, что махнула на себя рукой. Займись собой, в конце концов. И выброси ты этот дурацкий плащ, ему сто лет в обед.
— Нормальный плащ.
— И не затягивай его так, на тебя смотреть больно. Тебе дыхание не спирает, нет?
— Талия — это все, что у меня от молодости осталось. — Кэтрин помолчала и ехидно добавила: — Это потому, что я не рожала!
Типа, недолго тебе радоваться, разнесет так, что мало не покажется.
Оленьке расхотелось давать Кэтрин советы. А на следующий день она сказала, что ей надо к мужу, болеет как-никак.
42
Потом Володик вышел на работу и снова стал забирать Оленьку.
Вот и славно, кому охота шастать по холоду, да еще и с мадам, у которой закидоны.
— Пойдем куда-нибудь? В кино? Я лет пять в кино не была.
— Кэтрин, ты же знаешь, за мной муж сегодня заезжает.
— А завтра?
— Ну… и завтра, наверно, тоже.
— Все ясно.
Обиженное такое «все ясно». И — тишина.
Интересно, что ей ясно? Володика не было неделю, Володик вернулся. Кстати, он был совсем не в восторге от ее поздних возвращений. Ей теперь что, отношения в семье накалять? А чего ради?
— Я так и знала.
— Кэтрин, ну что, что ты «знала»?
— Знала, что тебе до меня дела нет. Как и всем.
— Кэтрин…
— Ничего. Вот сдохну, порадуетесь.
— Кэтрин!
— Уээл… я пошла.
43
А потом Кэтрин сдалась. Она уже не рыпалась никуда, но по-прежнему чуть что, затягивала свою песню. И даже когда рассказывала интересные вещи — о людях, которых встречала в жизни, о времени, в котором прошла ее молодость, — потом как-то незаметно сползала в заезженную колею. Начиналось все безобидно. Например, так:
— Когда я на курсах гидов училась, чтобы экскурсии по Кремлю водить, у нас там был такой тип, вылитый Хлестаков гоголевский. Врал без конца. Нет, ну с преподавателями был ниже травы. А так — врал. И такой фамильярный был, жуть. Бабник, само собой. Кстати, рассуждал о «папе Хеме», высокомерно так: мода-то уже прошла. Ты же понимаешь, каково мне было слушать его «пролистал, ничего особенного». Кстати, я тебе не рассказывала, как Хемингуэй в госпиталь попал?
И Оленька велась на это, чего же нет. Мотала головой.
— Уээл… Ну так он ведь ужасно хотел на войну, а его не брали, из-за зрения. Но он как-то извернулся и устроился шофером санитарной машины. Полез на передовую, и его там ранили, на австро-итальянском фронте. Потом двести двадцать семь осколков из обеих ног извлекли.
— Надо же, есть люди, которые на войну рвутся. — Оленька поежилась. — Я бы ни за что…
— Да ты дальше слушай. В госпитале он влюбился в медсестру. Ему было то ли восемнадцать, то ли девятнадцать лет, а ей двадцать шесть. Агнес ее звали. А сестрам нельзя было амуры крутить, между прочим. Она ему письма писала… а потом говорит, знаешь, молод ты для меня. Со старой женой счастья не будет. Но я тебя люблю и все такое, прощай, выхожу замуж за итальянского графа. Ну, он страдал, а потом оказалось, что родственники графа объявили Агнес авантюристкой, которая до титула дорваться хочет, и костьми легли, чтобы браку помешать. И помешали. Села она на корабль и поплыла себе обратно в Штаты, вся такая несчастная. И знаешь, что Хемингуэй сказал, когда узнал об этом? «Надеюсь, она споткнется на пристани и выбьет себе передние зубы».
— Злой какой.
— Ну и злой! Правильно. Нечего ей было кобениться.
Странно слышать такое от человека, который столько пережил.
— А ты догадалась, в какой книге он их отношения описал?
— Ну… в «Оружии», наверно?
— Ага. Я даже думаю, он специально героиню на тот свет отправил. От злости.
— Кэтрин, при чем тут злость. Это книга. Мне тоже хотелось бы, чтобы концовка была другая, но есть же понятие творческого замысла, что ли…
— Да! — В голос у Кэтрин шустренько втерлись брюзжащие интонации. — Если бы не его «творческий замысел», у меня была бы нормальная жизнь. — Губы поползли. — Вот скажи мне, зачем я живу?
— Кэтрин, ну как я могу…
— Не можешь, правильно. А знаешь, почему?
— Ну и почему?
— А потому что тебе все равно.
— Кэтрин, прекрати.
— Уээл… Ясно мне все.
И Оленька понимала, что надо помалкивать, но не выдерживала, закипала:
— Что? Что тебе ясно?
Кэтрин не удостоивала ее ответом. Отставляла чашку, сажала на нос окуляры.
У нее делался вид переводчика, чрезвычайно поглощенного своим нелегким трудом.
44
Кэтрин взяла манеру звонить по выходным.
— Ну? Что делаешь? — спрашивала умирающим голосом.
Чтобы ее развеять, Оленька принималась рассказывать какой-нибудь фильм, принесенный Володиком из проката и просмотренный «вот только что». Потом как-то удавалось избавиться, «завтра увидимся — поболтаем». Завтра, на работе.
В «Глобусе» про Оленькину беременность уже знали. Никто в глаза не шипел, да и что шипеть, ведь нашли замену-то. Когда Кэтрин надувала губы (без этого никуда), Оленька боялась, что та возьмет да и «потеряет» телефон юной корректорши. И даже бросила в запале, мол, я не удивлюсь, если…
Кэтрин обиделась. Она по-настоящему горько обиделась. Это было видно.
Да, она была занудой. Малость тронутой. Какой угодно, только не подлой.
В тот день Оленька попросила Володика заехать попозже и очень мило посидела с Кэтрин в кафе у метро.
45
Когда живот прилично вырос, Оленьке позволили брать работу на дом. Володик приезжал в редакцию, забирал тексты, сдавал вычитанное. Кэтрин звонила, справлялась о здоровье.
Потом у Оленьки начался отпуск по беременности, и она просто сидела дома, спала много. Кэтрин ненадолго оставила ее в покое, а потом взялась за старое.
Услышав в телефонной трубке первые брюзжащие переливы, Оленька торопливо заявляла, что явился Володик (свекровь) и ему (ей) срочно надо позвонить. Кэтрин, не будь дура, смекала, что дело нечисто.
— Хочешь от меня избавиться, да?
— Нет, Кэтрин, что ты. Просто муж обещал одному мужику с работы, что до… девяти что-то там ему сообщит. — И добавляла недовольным тоном, чтобы совсем запутать: — В этом доме я даже не могу по телефону поболтать!
Кэтрин не верила. А Оленька не решалась просто положить трубку.
— Пока? — мямлила она.
— Все ясно, — заявляла свое коронное Кэтрин.
— Кэтрин, я не могу говорить. Я тебе звякну.
Оленька не звонила. Вернее, звонила, но редко. Чтобы все-таки проведать.
Когда трубку брал папа, Оленька говорила «извините» и давала отбой.
— Я твоего отца боюсь, — признавалась она. — После того, что ты рассказала…
— Ты мне звонила! — Кэтрин так радовалась, что Оленьке стыдно становилось. — Да я же дома была, просто телефон не услышала! Весь вечер просидела, проскучала. А папу ты не бойся.
Конечно, Оленька не боялась. Но «папа» позволял ей сказать с почти чистой совестью: «Я тебе звонила».
Другими словами: «Я о тебе помню».
Другими словами: «Ты не одна».
И еще другими словами: «Ты не сдохнешь, Кэтрин. А если… то это будет не к нашей радости».
Вот какая начинка у примитивной фразы «Я тебе звонила». А папа — это всего лишь непреодолимое препятствие. Ничего страшного. В другой раз поболтаем.
46
— Тебе нельзя волноваться! Я скажу ей, чтобы она телефон наш забыла! — Володик кипятился, долго же до него доходило. Подруг разогнал, а Кэтрин чуть не прощелкал. — Я думал, она взрослая женщина, у вас деловые контакты! На тебе лица нет!
Конечно, лицо на Оленьке было. Только серенькое такое лицо. До родов оставались считаные дни, на Оленьку то и дело накатывали волны тихого ужаса. Она всегда боялась боли.
Тут-то ей и понадобился Володик. Он сидел с ней, держал за руку, говорил что-то мягко и уверенно. «Мне страшно», — мямлила Оленька. И он всякий раз отвечал ей что-нибудь вроде: «Ну ты же у меня храбрый заяц» или «Ну я же с тобой».