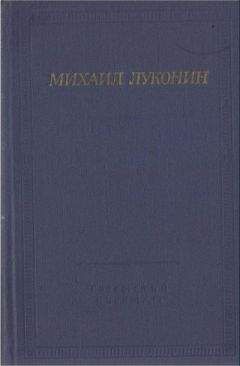Евгений Мин - Ценный подарок (сборник)
— Прибыли, — не очень любезно сказал Озимов, — давайте знакомиться.
— Лена Новосельцева, — присела девочка.
— Семен Петрускевич, — вытянул руки по швам мальчик.
— Садитесь завтракать, потом поговорим, — пригласила их Анна Власьевна.
— Спасибо, мы сыты, — застеснялась девочка.
— Мы не голодны, — сказал мальчик.
— Садитесь, — внимательно посмотрел на них Озимов. — Таких лепешек и генералы не едят.
Лена присела на краешек стула, мелкими глотками пила кофе, который налила ей Анна Власьевна, осторожно отламывая кусочки лепешки.
Семен Петрускевич ел сосредоточенно, изредка поглядывая на Озимова сквозь толстые стекла очков. Ему не верилось, что этот старый морщинистый человек в домашнем свитере, теплых фланелевых штанах и обрезанных валенках был когда-то грозой фашистских асов.
Завтракали молча. Озимов смотрел на белокурую девочку с черными глазами и думал, что только раз в жизни видел такое сочетание цвета волос и глаз. Это была Карима Черкизова, самая веселая и смелая, техник в эскадрилье. Она мечтала дойти до Берлина, а погибла от шальной пули под Киевом. Когда Кариму опускали в землю, плакали даже летчики, видевшие семь смертей.
— Послушай, Лена, у тебя не было родственницы, чтобы с такими же волосами и глазами?
— Нет, — как-то виновато сказала Лена, — у меня и мама и сестры — все черненькие.
Завтракали молча, потом Анна Власьевна убрала посуду со стола, а Озимов, Лена, Семен Петрускевич и Саня остались в столовой.
— Ну, — сказал Алексей Гаврилович.
Лена и Семен Петрускевич молчали, не зная с чего начать. Она застенчиво потупилась, а он, сняв очки, протирал совершенно чистые стекла.
— Да ну ты, шевелись, — незаметно от деда ткнул его в бок Саня.
Семен Петрускевич надел очки и твердо произнес:
— Товарищ Герой Советского Союза, Алексей Гаврилович Озимов, дважды кавалер ордена Ленина, боевого Красного Знамени, а также орденов Отечественной войны и Красной Звезды, мы хотели бы получить данные о вашей геройской деятельности.
Произнеся такую речь, он даже вспотел.
— Орденов? — насмешливо улыбнулся Озимов. — А почему медали забыл?
— «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта»…
— Хватит, — остановил его Озимов, — память у тебя крепкая, я и сам не помню. Так говорите, чего вы от меня хотите.
Он мельком взглянул на белокурую, черноглазую Лену, и в памяти опять возникла Карима Черкизова.
— Алексей Гаврилович, — робко сказала она, — нам нужны детали, подробности.
— Детали? Какие там детали? Кончил Ейское училище, летал под Ленинградом, на Северо-Западном фронте, на Первом Украинском, кончил войну в Берлине. Хватит, что ли?
Семен Петрускевич, вытянув руки по швам, сказал:
— Товарищ Герой Советского Союза, Алексей Гаврилович Озимов, извините, нам нужно описание ваших боевых подвигов и ваши переживания.
— Подвиги, — рассердился Озимов, — не к тому пришли, идите к полковнику Нагорничных, он вам все распишет в лучшем виде. Мое ощущение было одно — сбить противника…
— Мы уже были у него, — сказала Лена, — три блокнота исписали.
— Мы — следопыты, — с достоинством сказал Семен Петрускевич, — два года этим занимаемся, можно сказать ветераны, а вы у нас неохваченный.
Озимов хотел сказать, что нечего героев искать, как грибы, но, взглянув на белокурую девочку, смягчился.
— Вот что, ребята, устал я, пойду отдохну, а вы пока с Александром займитесь, у него хорошие игры есть, — сказал он и, чуть прихрамывая на правую ногу, ушел в свою комнату.
Ребята, опечаленные, остались в столовой.
— Так, — горько сказала Лена, — ничего не вышло, идем домой, Семен Петрускевич.
Саня рассмеялся:
— Что это ты его так зовешь, будто он профессор.
— Его у нас все Семеном Петрускевичем зовут, и еще профессором.
— Брось ты! — рассердился Семен Петрускевич.
— Идемте ко мне, — сказал Саня, — дед отдохнет, добрее станет, я всю его натуру знаю. Пошли!
Лена вопросительно взглянула на Семена Петрускевича, он кивнул головой, и «ветераны» пошли вслед за Саней.
Через полчаса из своей комнаты вышел Озимов и, не видя никого, направился к Анне Власьевне.
— Ну что, мать, ушли эти «ветераны»?
— Нет, Алеша, все с Саней играют.
— Ну и дело, путь своими ребячьими забавами занимаются, я пойду к себе, отсижусь еще.
Когда, час спустя, он снова вернулся в столовую, Лена и Семен Петрускевич уже ушли, а у окна сидел Саня и смотрел на искрящийся снег.
— Ушли твои следопыты? — спросил Озимов.
— Ушли, — нехотя ответил Саня.
— Так. В какие игры играли?
— В морской бой и в настольный теннис.
— Кто же верх взял?
В следующее воскресенье Озимовы завтракали всей семьей. Мама шпыняла Саню: «Сиди прямо. Не клади локти на стол». Сане просто есть не хотелось. Выручила соседка по лестничной клетке, пенсионерка со стажем Софья Марковна. Дедушка называл ее Софинформбюро: она знала все, что делается в доме.
— Присаживайтесь к нам, Софья Марковна, — предложила бабушка.
— Спасибо, — отказалась соседка. — Я на минуточку, Алексею Гавриловичу сюрприз принесла. «Детская газета». Здесь о вас пишут, — вот, пожалуйста, — вынула она из сумочки вчетверо сложенную газету и протянула ее Озимову.
— Обо мне? — удивился Алексей Гаврилович. — Что там?
Он надел очки, развернул газету и углубился в чтение.
— Так, так, — тихо и грозно сказал он, кончив читать. — Откуда они все это узнали?
— Так они же следопыты, — хотел сохранить невозмутимое спокойствие Саня и покраснел.
— Как же это им стало известно, что меня сбили под Воронежем, и я не только остался цел, но еще взял в плен фрица и привел его в часть? Кто им рассказал про Кариму Черкизову? Ты, — ткнул он пальцем в сторону Сани, — тебе лично все доверили, а ты…
— Дед, — заныл Саня, — я же ничего такого, я только хотел, чтобы все знали, какой ты у меня.
— Дед, — усмехнулся Озимов, — дед свое отыграл, ты о себе думай, чтобы человеком стать.
— Извините, Алексей Гаврилович, — вмешалась Софья Марковна, — это, конечно, не мое дело, но, простите, ваше высказывание непатриотично. Теперь на всех собраниях указывают, что фронтовики должны передавать опыт, молодым поколениям.
— Извините, Софья Марковна, — сказал Озимов. — У нас не собранье, а семья.
Софья Марковна вспыхнула сухим румянцем:
— Спасибо!.. Вот и делай людям добро!
Попрощалась она и быстро ушла мелкими шажками.
Остальные члены семьи молча сидели за столом. Озимов еще раз перечитал статью, подумав: «Ни к чему это… Но хорошо, что про Кариму написали. Ведь до сих пор о ней ничего не сказано, а она стоила всех нас».
Тайна беличьей лапы
Как-то в одном обществе зашел разговор о доверии, которое должны питать дети к взрослым, о цене этого доверия и о том, как трудно удержать его. Спорили долго и жарко. Я молчал. На память мне приходило давнее время.
Наша семья жила тогда в большом провинциальном городе, известном только тем, что здесь в прошлом веке находились в ссылке два знаменитых русских писателя.
Зимой город был завален непролазными снегами, летом, в жару, река, пересыхая, становилась ручейком, листья деревьев покрывала мелкая серая пыль, дышать было нечем, и родители, кто мог, вывозили детей за город.
Было мне одиннадцать лет. В тот год мы жили в деревне Ганичеве. Спустя четыре года она стала колхозом.
Дом, в котором мы поселились, новый, бревенчатый, пахнул сосной и смолой. Хозяин его, большой, чернобородый мужчина, был похож на Пугачева, по тем картинкам, которые я видел в «Капитанской дочке».
Телевизора тогда еще не изобрели, я читал все, что попадется под руку, порой совсем неподходящие книги. К Пушкину это не относится. Пушкин, по-моему, — для старых и малых.
Жена хозяина была выше мужа и шире в плечах, взрослый сын — здоровяк. Видели мы хозяев редко, они рыбачили, надолго уходя на промысел, а когда возвращались, жили всей семьей во дворе в крепко сколоченном сарае. В отличие от других крестьян, у них не было домашнего скота, и только одну корову они держали у сестры хозяйки.
Входили мы в дом через сени, а потом через кухню, большую часть которой занимала русская печь. Я впервые увидел ее, мама относилась к ней с недоверием, предпочитая готовить на примусе и керосинке.
Вслед за кухней шли три комнаты, с чисто выскребенными полами и обоями в веселеньких цветочках.
В первой комнате жили мама с папой, когда он приезжал из города, во второй — я с четырехлетним братом Шуриком, в третьей комнате, выходившей на другую сторону дома, — старуха полька Людвига Францевна с молодой дочерью, которую, как требовала мать, все звали Изабеллой Иоанновной.