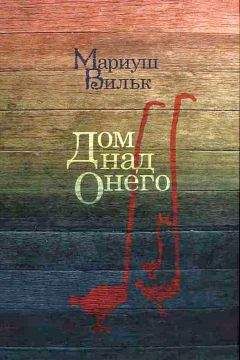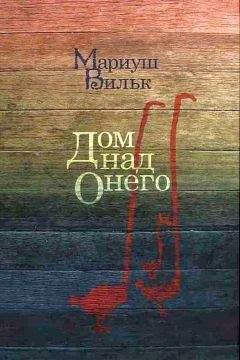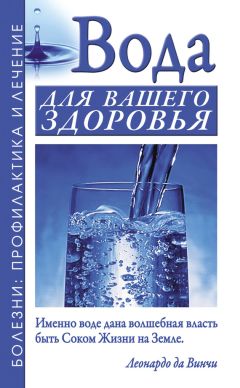Джамал Садеки - Снег, собаки и вороны
Начальник заговорил снова. Его низкий, сиплый голос сливался в ушах Кемаля с шумом дождя:
— По закону он должен был бы потерять поставки, но они там смазали кого надо, так что все в порядке…
Кемаль все смотрел на улицу. Деревья стояли совсем мокрые. Капли дождя, словно жемчужины, скатывались по стеклу. Ветер громыхал крышей.
В ушах Кемаля стоял шум дождя, грохот ветра, перед глазами маячили намокшие серые стволы. Он продолжал смотреть в окно. И вдруг услышал в себе знакомую мелодию ручья. Песня все нарастала, приближалась и, наконец, заполнила собой все.
Потоки дождя сплошь заливали оконное стекло, мокрые серые деревья выделялись еще резче, водяные струи с силой обрушивались на листву.
Кемаль обернулся к начальнику. Глаза внезапно вспыхнули, он спросил неожиданно для самого себя:
— Кстати, вы нашли кого послать в командировку?..
— Пока нет, не хотелось самому назначать, но, что делать, так ничего не выходит. Все хорошо устроены, никто не желает покидать насиженные места…
Кемаль взглянул на пустой стул у своего стола и вздрогнул. Такой же страх пронзил его дома, возле бассейна. Охваченный волнением, отошел он от окна.
В кабинет вошел служитель, неся поднос с чаем. Он поставил каждому чашку и уже собрался уходить, как вдруг Кемаль окликнул его, попросил задернуть шторы и зажечь свет.
Кемаль подошел к столу. Тело медленно поползло вниз, коснулось сиденья и с облегчением рухнуло на стул.
Дождя и ветра теперь почти не было слышно. Звучание ручья постепенно замирало в нем. Руки Кемаля насыпали в чашку сахар, помешали ложечкой. Кемаль поднес чашку ко рту, сделал несколько глотков. Горячий сладкий чай обжигал рот, ласково согревал горло, опускался глубже, разливая по телу успокоение и негу.
Он вытянул ноги, зевнул, поудобней устроился на мягком стуле с подлокотниками и сказал:
— Удивительное дело… Этот Мешеди Хасан знает, когда подать чай!
Приход и уход
Всех, кто стар и кто молод, что ныне живут,
В темноту одного за другим уведут.
Жизнь дана не навек. Как до нас уходили,
Мы уйдем; и за нами придут и уйдут.
Омар ХайямУже несколько часов маялся я среди сыпучего, раскаленного песка, на безжизненной дороге. Ни одной мысли. Голова шла кругом. Лицо заливал пот. В затылок палило, прожигая до мозга. Нос ощущал запах сожженной земли. В ушах звенело от гомона пассажиров. Ветер разбрасывал голоса, словно кучки мусора:
— Ну и жара… Огнем пышет.
— Это ад… настоящий ад. О господи, сжалься над нами.
— Я не могу больше… не могу! Боже, какая жара.
— Так я и знал, что этот недотепа не довезет нас до города по-хорошему… С самого начала знал.
— Ну успокойся, успокойся. Что толку причитать?
— Аббас-ага говорит, все пропало, придется нам пешком идти…
…Машина сломалась на половине дороги. И теперь одни остались сидеть в ней, другие, не выдержав, вылезли и разбрелись под нещадно палящим солнцем. Случившееся превратило всех в разобщенное злое сборище.
Еще несколько часов назад, на рассвете, когда наша старенькая машина взревела и тронулась в путь, никому и в голову не могло прийти, что мы застрянем на этом дьявольском солнцепеке.
Аббас-ага выбрался из-за руля и вместе со своим помощником Махмудом вышел из машины.
— Серьезная поломка? — спросил кто-то из пассажиров.
Аббас-ага промолчал. Слышно было, как он спросил:
— Ну как, Махмуд, поправишь, а?
— Сейчас посмотрим, — ответил Махмуд.
— В заднем колесе тоже прокол, — заметил кто-то.
— Знаю, — сквозь зубы произнес Аббас-ага.
В автобусе появился Махмуд, достал ящик с инструментами и снова исчез под машиной.
Аббас-ага ворчал:
— Проклятье! Ни разу еще не было, чтобы спокойно доехали до города. Ну, давай, Махмуд, голубчик, давай.
Аббас-ага одобрительно смотрел, как работают руки Махмуда, покачивал головой в такт его движениям. Не впервые приходилось ему восхищаться работой Махмуда, высказывать свое одобрение. Когда однажды в пути у Махмуда началось кровотечение из носа, Аббас-ага бросил руль и принялся водой останавливать кровь. А потом всю дорогу повторял: «Приедем в город, ты это дело так не оставляй, не годится, дорогой. Какой у тебя нос слабый. Того гляди, вся кровь из тебя вытечет».
Все это Аббас-ага рассказал мне, когда Махмуд отошел, и добавил:
— Я так его полюбил, не поверите… Уж сколько лет вместе работаем. Знаем друг друга до косточки. Так-то он крепкий, не боится ни жары, ни холода. Не глядите, что много крови теряет. Он как железный. Я таких людей не встречал… Видите, какой желтый, — это малярия его треплет. Не ровен час, отдаст богу душу…
Мне хотелось спросить: почему же он не лечится?.. Аббас-ага словно прочел этот вопрос в моих глазах. Лицо его окаменело, он сжал челюсти, потом промолвил:
— Молод он еще, недавно женился, все, что было, истратил… А долгов сколько набрал…
Он замолчал и отошел от меня…
Застрявшая машина напоминала огромное красное животное. Лучи солнца, словно золотая мошкара, роились у его морды. Я посмотрел вокруг: пустыня, казалось, кишела этой расплодившейся от солнца мошкарой. Сотрясавшаяся машина представлялась мне человеком в приступе малярии.
Я почувствовал, как солнечные мураши спускаются по моей спине и расползаются по всему телу. На память пришла картина: саранча в муравейнике, живьем съедаемая муравьями. Я содрогнулся. Жара пропитывала все тело, проникая под кожу, в кровь и мозг. Я был весь мокрый.
В стороне от машины на земле лежали двое — молодые муж и жена. Она была беременна. В автобусе они не умолкая говорили о будущем ребенке, обсуждали, как назовут его, каким он будет. Все планы, все разговоры были вокруг ожидаемого события, и оба они тихонько смеялись от счастья. Теперь муж и жена лежали на боку, притихшие и испуганные. Я видел ее спину, круглый контур живота, чувственный изгиб бедер. Всей тяжестью массивного тела она прильнула к земле, руки покоились на животе, как бы охраняя и защищая драгоценную ношу. Она дышала тяжело и часто, словно задыхалась. Муж с лицом обиженного ребенка печально смотрел на нее. Казалось, он вот-вот заплачет.
По ту сторону машины расположились остальные пассажиры. Я перебирал в памяти все, что узнал о них. Вон те два крестьянина по пути все время считали и пересчитывали: «Четыре тумана да пятнадцать туманов будет двадцать без одного…» Теперь они сидели, поглядывая лишь друг на друга, и тревога, охватившая всех прочих, почти не ощущалась в них. Неподалеку сидел мулла и обмахивался полой халата. Я узнал его по круглой бритой голове. В машине он раза три-четыре обращался к пассажирам с призывом вознести молитву богу, а потом смолк.
Брат и сестра, без конца ссорившиеся и пререкавшиеся, теперь сидели молча. Брат, который был помоложе, казался смышленым и застенчивым. В пути он все старался утихомирить свою придурковатую, строптивую сестру, но ничего у него не получалось, и теперь он сидел поникший от стыда, обливаясь потом.
У дервиша[13] лицо по-прежнему было закутано. Даже при выходе из машины он не рискнул раскрыться, чтобы, не дай бог, один из молодых людей, расхаживавший с фотоаппаратом и снимавший то одного, то другого пассажира, неожиданно не щелкнул бы и его.
С дороги доносился монотонный звук ударов молотка… Потом все стихло. Я еще не успел понять, что произошло, как раздался голос Аббас-ага:
— Что, по руке попал?
— Да — будь она неладна — руку придавил, — ответил голос Махмуда.
Я услышал звук разрываемой материи, приподнялся и сел. Глаза слепило от солнца, и все вокруг показалось мне темным. Силуэт Махмуда исчез за машиной. Темные, маленькие пятна двигались по земле. Только я стал вглядываться в них, как из-за машины опять вышел Махмуд: одна рука обвязана тряпкой, побледневшее костистое лицо — будто клок желтой ткани.
Я снова взглянул вокруг. Насколько хватало глаз тянулась дикая, песчаная пустыня. Эта голая, высохшая и раскаленная земля распростерлась под нами, словно белый ковер. На белой плоскости не голубело ни одного возвышения-кругом расстилалось белое выжженное пространство, вбирая в себя более светлый, прозрачный горизонт. Его едва различимая линия отделяла землю от неба, словно разграничивала их владения. Я с изумлением оглядывал пустыню, купающуюся в расплавленном источнике золотого светлого солнца, устремлял глаза на загадочную линию горизонта.
Между тем откуда-то вдруг налетели сильные порывы ветра, поднимая струи мягкой белой пыли и увлекая их за собой, словно волнующиеся облака. Струи, сливаясь, поднимались кверху и обрушивались на дорогу смерчами. Кругом завыли, засвистели дикие голоса. Пустыня будто ожила, превратилась в море, полное гибнущих людей. Казалось, это их стоны и вопли доносил до нас ветер.