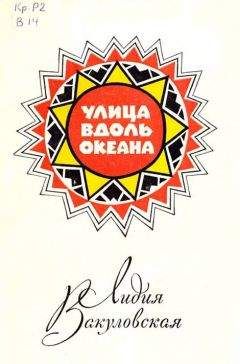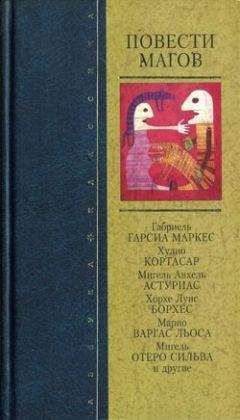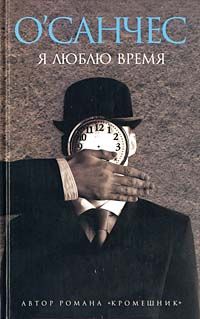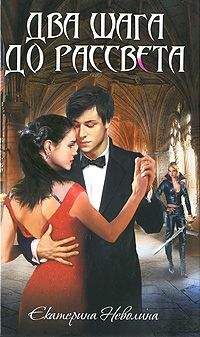Хуан Онетти - Манящая бездна ада. Повести и рассказы
С Кирстен он говорил еще до того, как попытался обокрасть меня; он сказал ей, что скоро произойдет нечто очень важное и очень хорошее; что он приготовил для нее необыкновенный подарок, но не просто какую-то вещь — руками ее не потрогаешь. Поэтому, после всего что произошло, он почувствовал себя обязанным объясниться с ней, рассказать о беде; но сделал он это не у Скопелли, не за бокалом импортного кьянти, а у них на кухне: он посасывал мате через металлическую трубочку, а она, повернув в профиль круглое, окрашенное розовыми бликами лицо, сидела и смотрела, как пляшет в железной плите огонь. Не знаю, сколько они пролили слез; потом он договорился со мной, что будет расплачиваться своим жалованьем, а она достала себе работу.
Следующая часть истории началась, когда спустя некоторое время она стала исчезать из дому в часы, никак не связанные с ее работой; если они уславливались о встрече, она всегда опаздывала, а случалось, вставала среди ночи, одевалась и уходила, не произнеся ни слова. У него не хватало духу сказать ей что-нибудь и вообще не хватало духу заговорить с ней и поставить вопрос ребром, потому что жили они на ее заработки, а от его работы у Серрано ему перепадал разве лишь стаканчик вина, который я изредка ему ставил. Итак, он замкнул уста и только и мог, что досаждать ей своим дурным настроением, особым дурным настроением вдобавок к тому, что завладело ими с памятного дня, когда Монтес попытался обокрасть меня, и, думаю, не покинет их до самой смерти. Его мучили подозрения, и он строил самые нелепые догадки, пока однажды не последовал за ней и не увидел, как, шаркая подошвами по камням, направляется она к порту, одна, и часами простаивает там в оцепенении, глядя на море, рядом с провожающими и все же отдельно от них. Так же, как и в ее ночных рассказах, тут не было никакого мужчины. На этот раз он заговорил с ней, и она ему все объяснила; Монтес очень настаивал еще на одном, по-моему, не имеющем значения обстоятельстве: он без конца повторял, как будто я отказывался ему верить, что говорила она обычным тоном и не казалась ни печальной, ни сердитой, ни смущенной. Она сказала, что всегда ходит в порт, в какой бы то ни было час, посмотреть на суда, отправляющиеся в Европу. Он испугался за нее и решил бороться с этой причудой, убедить ее, что ходить сюда для нее еще хуже, чем сидеть дома; но Кирстен все тем же, обычным своим голосом сказала, что ей хорошо тут и что она обязательно будет ходить в порт, смотреть, как отчаливают корабли, махать им рукой или просто смотреть, пока глаза не заболят, и будет делать это всякий раз, когда только сможет.
И он в конце концов решил, что обязан сопровождать ее и таким образом выплачивать ей по частям свой долг, как выплачивал мне. И вот сейчас, в этот субботний вечер, а бывало и ночью и в полдень, в ясную погоду и в дождь, добавляющий свои струи к тем, что постоянно орошали ее лицо, направляются они вместе в порт, мимо Ретиро, прогуливаются по пристани до отхода корабля, теряясь среди людей с чемоданами, пальто, цветами и носовыми платками в руках, а когда после гудка сирены пароход начинает медленно отчаливать, они замирают на месте и смотрят, смотрят до изнеможения, каждый думая о своем, глубоко потаенном, но, сами того не зная, объединенные отчаянием и чувством одиночества, которое всегда ужасает нас, стоит лишь нам задуматься.
Дом в песках
© Перевод. Евгения Лысенко
Когда Диас Грей без сожаления примирился с мыслью об одиночестве, он занялся игрой самопознания по единственному сохранившемуся у него воспоминанию, меняющемуся и уже без определенной даты. Он видел отдельные картины этого воспоминания и видел себя самого — как лелеет и подправляет его, чтобы не дать ему исчезнуть, как восполняет пробелы при каждом пробуждении, подкрепляя неожиданными вымыслами, когда сидит у окна своего кабинета, или снимает на ночь халат, или со скучающей улыбкой коротает вечера в баре отеля. Его жизнь и сам он свелись к этому воспоминанию, единственному достойному того, чтобы к нему возвращаться, подправлять его, а порой и искажать его смысл.
Доктор подозревал, что с годами в конце концов поверит, будто первая достопамятная часть этой истории предвещала все то, что — с различными вариантами — произошло потом; будто в аромате духов той женщины — в течение всей поездки доносившемся до него с переднего сиденья машины — уже таились, зашифрованные, все последующие события, то, что он ныне вспоминал, оспаривая, и что эта история, возможно, достигнет совершенства в годы его старости. Тогда он обнаружит, что Рыжий, ружье, палящее солнце, легенда о зарытом кольце, умышленные невстречи в ветхом домике и даже финальный пожар — все было скрыто в аромате духов неизвестного ему названия, который и теперь ему иногда удавалось услышать в запахе сладких напитков.
После езды вдоль берега — так начиналось воспоминание — машина свернула с дороги и медленно, неуверенно поползла вверх, пока Кинтерос не остановил ее и не выключил фары. Диас Грей не стал разглядывать пейзаж — он знал, что дом окружен деревьями, стоит очень высоко над рекой, среди дюн, на отшибе. Женщина осталась в машине, мужчины вышли. Кинтерос передал ему ключи и сложенные вдвое банкноты. Кажется, огонек зажигалки, которую женщина поднесла к сигарете, на миг осветил их лица.
— Ничего не делай и не нервничай. Если пойдешь вдоль берега направо, там будет деревня, — сказал Кинтерос. — Главное, ничего не предпринимай. Посмотрим, чем дело кончится. Не пытайся меня увидеть или звонить мне. Договорились?
Диас Грей пошел наверх, к дому, делая вид, будто пытается скрыть свой белый костюм, петляя между деревьями. Машина выехала обратно на дорогу и стала набирать скорость, пока шум мотора не слился с шумом прибоя, пока он, закрыв глаза, уже слышал только плеск прибоя, упрямо твердя себе, что уж как-нибудь проживет здесь один осенний месяц, вспоминая последние недели, когда занимался почти исключительно тем, что выписывал рецепты на морфий в шикарном кабинете Кинтероса да украдкой поглядывал на англичанку, любовницу Кинтероса — Долли или Молли, — которая совала рецепты в сумочку и выкладывала бумажки по десять песо на угол стола, не вручая их ему непосредственно, никогда с ним не разговаривая, даже как бы не видя его, только следя за быстрыми, привычными движениями руки Диаса Грея на рецептурном бланке.
Череда солнечных дней, проведенных на берегу до появления Рыжего, слилась в воспоминании его в один-единственный день нормальной длины, в котором, однако, умещались все события; один очень теплый осенний день, в котором, к тому же, могло бы уместиться его собственное детство и множество никогда не исполнившихся желаний. К этому дню не требовалось прибавить ни одной минуты, чтобы увидеть себя, как он беседует с рыбаками на краю песчаного пляжа, как разделывает раков для приманки, как идет по берегу к деревне в лавку, где покупает себе продукты и пропускает рюмочку, односложно отвечая на каждую фразу хозяина. В тот же почти жаркий день он купался на совершенно пустынном пляже, забавляясь, кроме всяческих других игр, гнилым бревном, качавшимся на волнах, и слушая трио крикливых чаек. Или же брел вверх по дюнам или скользил с них, ловил в кустарниках стрекоз, — предчувствуя, что где-то здесь будет зарыто кольцо.
Кроме того, в этот же нескончаемый день Диас Грей зевал в галерее домика, растянувшись в шезлонге, — рядом, бутылка, на коленях старый журнал, открыто стоящее под навесом заржавевшее, бесполезное ружье, прислоненное к стволу вьющегося растения.
Вот так проводил дни Диас Грей с бутылкой, со своим разочарованием, с журналом и ружьем, когда из-за деревьев вынырнул Рыжий и полез по песчаному откосу к дому — на плече у него висела куртка, широкая спина сильно горбилась. Диас Грей выждал, пока тень пришельца коснется его ног, — лишь тогда он поднял голову и взглянул на растрепанную шевелюру, на впалые, веснушчатые щеки; смесь жалости и отвращения нахлынула на него — такой и осталась она в воспоминании, не поддаваясь никаким усилиям памяти или воображения.
— Меня прислал доктор Кинтерос. Кличут меня Рыжий, — ухмыляясь, объявил гость; опершись рукой о колено, он как бы ждал, какие необычные нюансы внесет его имя в окружающий пейзаж, в близящееся к полдню утро, в самого Диаса Грея и его прошлое. Был он намного мощнее доктора — даже в такой, полусогнутой позе, подчеркивавшей его ранний горб. Они перекинулись одним-двумя словами, Рыжий в улыбке скалился, обнажая ряд мелких, как у ребенка, зубов, заикался и все поглядывал на реку.
Диасу Грею ничто не мешало по-прежнему сидеть и чувствовать себя столь же одиноким, словно гость не вытянул руку, чтобы сбросить с плеча куртку, и не забрался повыше, чтобы усесться на галерее, лицом к пляжу, свесив ноги и согнувшись всем туловищем. Доктор вспомнил историю болезни Рыжего, пространное описание его мании к поджогам, сделанное Кинтеросом, — этот рыжий полуидиот был известен в провинциях Севера страстью к спичкам и канистрам с бензином, он вроде бы отождествлял себя с солнцем и всячески сопротивлялся, чтобы его не уничтожили в изначальной материнской тьме. Возможно, сейчас, разглядывая солнечные блики на воде и на песке, он вспоминал пожары, о которых так поэтично и страстно рассказывал Кинтеросу.