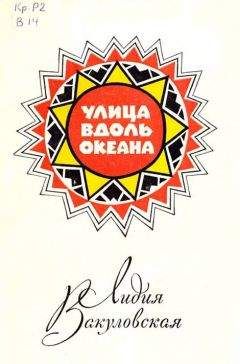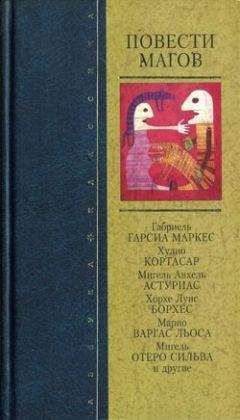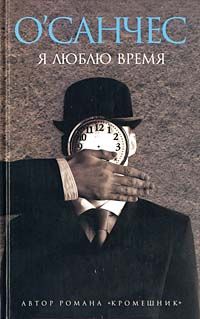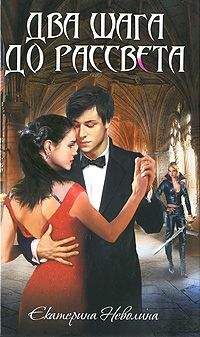Хуан Онетти - Манящая бездна ада. Повести и рассказы
Кажется, он рассказал мне всю эту историю или почти всю в первый же день, в понедельник, когда пришел ко мне, жалкий, как побитая собака, с зеленым лицом и каплями холодного пота, противно блестевшими на лбу и крыльях носа. Остальные подробности он, должно быть, рассказал после, во время нечастых наших разговоров.
Началось это зимой, с первыми сухими холодами, когда все мы, даже не отдавая себе в том отчета, думаем, будто этот свежий ясный воздух несет нам удачу, веселые похождения с друзьями, смелые замыслы; возбуждающий воздух — может быть, все дело было в этом. В один из таких вечеров он, Монтес, вернулся домой и увидал, что жена сидит у железной плиты и не спускает глаз с пылающего огня. Мне это кажется не столь уж важным, но он рассказывал именно так и несколько раз повторил. Она была печальна, но не хотела говорить почему, и оставалась печальна и молчалива весь вечер и еще целую неделю. Кирстен — упитанная, полная, и кожа у нее, наверно, прекрасная. Она была печальна и не хотела рассказывать, что с ней. «Да ничего со мной не случилось», — говорила она, как говорят все женщины во всех странах. Потом она принялась развешивать по всему дому фотографии, привезенные ею из Дании, — король, министры, пейзажи с коровами и холмами или без них. Она по-прежнему твердила, что ничего не случилось, а этот болван Монтес предполагал то одно, то другое, но догадаться никак не мог. Потом стали приходить письма из Дании; он не понимал ни слова, и она объяснила ему, что написала дальним родственникам и теперь получает ответы, но известия в них не очень радостные. Он спросил в шутку, уж не хочет ли она уехать, и Кирстен решительно заявила, что нет. В ту же ночь или на следующую, едва он начал засыпать, она потрясла его за плечо и настойчиво повторила, что не собирается никуда уезжать; он закурил и поддакивал ей все время, пока она рассказывала, словно по книжке, о Дании, о флаге с крестом, о дороге через лес, по которой ходила в церковь. Все это говорилось, чтобы он понял, как счастлива она в Америке, с ним, и Монтес наконец спокойно заснул.
Некоторое время продолжали приходить и уходить письма, и вдруг как-то вечером, когда они уже лежали в постели, Кирстен погасила свет и сказала: «Если ты не будешь мне мешать, я расскажу тебе одну вещь, только слушай, не говоря ни слова». Он пробормотал: «Конечно, конечно», — и вытянулся неподвижно рядом с ней, роняя пепел с сигареты в складки простыни, готовый ко всему, ожидая, что в рассказе жены вот-вот появится мужчина. Но она даже не упомянула ни об одном мужчине; глухим, хриплым голосом, как будто только сейчас перестала плакать, она сказала ему, что они могли оставлять велосипеды на улице и все двери открытыми, когда уходили в церковь или еще куда, потому что в Дании нет ни одного вора; сказала, что деревья там выше и старее, чем в любой стране мира, и что у каждого дерева свой запах, его ни с чем не спутаешь, он сам по себе, даже когда смешивается с запахом других деревьев в лесу; сказала, что на заре люди просыпаются от крика морских птиц, а издали доносятся выстрелы охотников; и весна там подкрадывается, прячась под снегом, и вдруг вырывается и заливает все, как наводнение, и тогда люди только и говорят что об оттепели. Весной в Дании, в рыбачьих поселках, все ходуном ходит.
И еще она повторяла: «Esbjerg er neerved kysten»,[17] и это особенно волновало Монтеса, хотя он и не понимал, что это значит; он говорил мне, что сам заражался желанием заплакать, которое чувствовал в голосе жены, когда она все это рассказывала тихо, с благоговением, какое невольно появляется во время молитвы. Повторяла снова и снова. Непонятные слова трогали его, вызывали жалость к жене — более крупной, чем он, более сильной, — и ему хотелось защитить и утешить ее, как заблудившуюся девочку. Мне кажется, дело было в том, что эта непонятная фраза казалась ему чем-то совсем далеким, совсем чужим, как бы исходящим из неизвестной части ее жизни. С этой ночи в нем зародилось чувство сострадания; оно все росло, как будто Кирстен была тяжело больна и с каждым днем становилась все слабее, и не было никакой надежды спасти ее.
Вот так он и пришел к мысли, что должен совершить великий подвиг, который принесет благо ему самому, поможет ему жить и будет служить утешением на долгие годы. Он задумал раздобыть деньги на поездку Кирстен в Данию. Наводить справки он стал еще до того, как по-настоящему решил это сделать, и выяснил, что двух тысяч песо будет достаточно. Но даже теперь он не отдавал себе отчета в том, что у него появилась настоятельная необходимость раздобыть эти две тысячи песо. Вероятно, так оно и было, он сам и не понимал, что с ним происходит. Раздобыть две тысячи песо и сказать ей об этом субботним вечером, за столиком в дорогом ресторане, поднимая последний бокал отличного вина! Сказать об этом и увидеть по ее лицу, слегка раскрасневшемуся от еды и вина, что Кирстен ему не верит; в первую минуту она подумает, что он сочиняет, потом постепенно ее охватит восторг и воодушевление, потом польются слезы, и наконец она решит не принимать его дар. «Это у меня пройдет», — скажет она; а Монтес будет настаивать, пока не убедит ее, и убедит еще и в том, что не собирается расставаться с ней, а будет ждать ее здесь до самого возвращения.
В иные ночи, когда он думал в темноте о двух тысячах песо, о способах раздобыть их и представлял себе, как сидят они субботним вечером в укромном уголке у Скопелли, а он с серьезным лицом и легкой улыбкой в глазах начинает разговор, начинает с вопроса, в какой день хотела бы она сесть на пароход; в иные ночи, когда, прежде чем удавалось заснуть, ему снились ее сны, Кирстен снова заводила рассказ о Дании. Собственно, это была не Дания; только кусочек страны, маленький клочок земли, где она родилась, где научилась родному языку, где впервые танцевала с мужчиной и видела смерть тех, кого любила. Это было место, которое она потеряла, как теряют любимую вещь, и забыть его было невозможно. Она рассказывала ему и другие истории, но по большей части повторяла одни и те же, и Монтесу казалось, что он видит дороги, по которым она ходила, деревья, людей, животных.
Дородная Кирстен, сама того не замечая, сдвигала его к стенке и, лежа на спине, рассказывала; а он представлял себе, как у нее опускается кончик носа, сужаются глаза, окруженные тонкими морщинками, и дрожит подбородок, когда она произносит заветные слова прерывающимся, исходящим из глубины груди голосом, немного утомительным для слушателя.
Тогда Монтес подумал о кредите в банке, о заимодавцах, подумал даже, что деньги мог бы ему дать я. Как-то в субботу или в воскресенье он размечтался о поездке Кирстен, когда сидел вместе с Хасинто у меня в конторе, слушая телефон и принимая сообщения из Палермо или Ла-Платы. Дни были вялые, ставки едва доходили до тысячи песо; но иногда появлялся какой-нибудь азартный игрок и сумма поднималась до пяти тысяч, а то и выше. Монтес должен был звонить мне по телефону перед каждым заездом и докладывать о состоянии игры; если дело принимало опасный оборот — иной раз это чувствуется, — я старался ускользнуть, передавая игру Велесу, Мартину или Васко. И тут Монтесу пришло в голову, что он может не уведомлять меня, может скрыть три или четыре самые крупные игры, взять на свой риск тысячу билетов и, если хватит смелости, выиграть либо путешествие своей жене, либо пулю в лоб. Он может сделать это, если хватит духу; откуда Хасинто знать, сколько билетов разыгрывается при каждом телефонном звонке? Монтес рассказывал мне, что думал об этом целый месяц. Казалось бы, так оно и было, казалось бы, подобный тип должен долго колебаться и мучиться, прежде чем станет обливаться потом в нервной горячке перед каждым телефонным звонком. Но я готов поставить крупный куш, что тут он солгал; готов биться об заклад, что он пошел на это неожиданно для самого себя, решился внезапно, сразу поверив в свои силы, и принялся спокойно обкрадывать меня на глазах у этой скотины Хасинто, который ничего не замечал и только потом заявил: «Я же говорил, что слишком мало билетов для такого дня». Я уверен — у Монтеса заколотилось сердце, и он вдруг почувствовал, что сейчас выиграет, но не обдумывал это заранее.
Вот так он повел игру, которая дошла до трех тысяч песо, и, охваченный отчаянием, весь в поту, стал прогуливаться по конторе, поглядывая на свои расчеты, поглядывая на Хасинто, напоминавшего гориллу в шелковой рубашке, поглядывая в окно на улицу, которая уже заполнялась в этот предвечерний час машинами. Вот так было, когда он начал понимать, что проигрывает, что чужие выигрыши с каждым телефонным звонком возрастают на сотни песо, и все его тело покрылось потом, особым потом трусов, холодным, липким, зеленоватым, следы которого еще оставались на его лице, когда в понедельник днем он наконец нашел в себе силы вернуться в контору и рассказать мне все.
С Кирстен он говорил еще до того, как попытался обокрасть меня; он сказал ей, что скоро произойдет нечто очень важное и очень хорошее; что он приготовил для нее необыкновенный подарок, но не просто какую-то вещь — руками ее не потрогаешь. Поэтому, после всего что произошло, он почувствовал себя обязанным объясниться с ней, рассказать о беде; но сделал он это не у Скопелли, не за бокалом импортного кьянти, а у них на кухне: он посасывал мате через металлическую трубочку, а она, повернув в профиль круглое, окрашенное розовыми бликами лицо, сидела и смотрела, как пляшет в железной плите огонь. Не знаю, сколько они пролили слез; потом он договорился со мной, что будет расплачиваться своим жалованьем, а она достала себе работу.