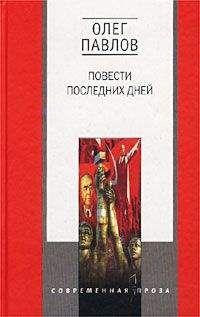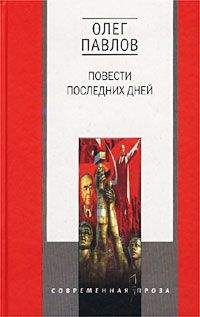Олег Павлов - Дело Матюшина
Узбечонок затаился, когда служка побратался на его глазах с полковым хлеборезом, с самим Вахидом. Молчком воротились они с груженой тележкой в лазарет. До ужина держали лапшу готовой на плите, а после ужина опять взялся Матюшин за работу. Узбечонок злился, курил и ничего не делал, а Матюшин так и работал, все одно что служил ему по команде. Так долго и тяжко он еще никогда в жизни своей не работал. За окошком уж смерклось, лазарет отходил ко сну, но Матюшин должен был свезти на той же тележке бак дневных отходов в столовую. Узбечонок, шатаясь со своим тесаком в стихшем, что яма, и пустом от чистоты хозблоке, сказал ему про то, улыбнулся пьяной, неизвестно откуда взявшейся за день улыбкой и ткнул воздух, давая тычком понять, что посылает его одного в ночь, а сам остается.
И той дорогой, что едва помнил и почти не различал в потемках, он вывез тележку к столовой, где сонливо копошились какие-то подневольные солдаты и не было уж видно, будто вымерли, поваров. Эти солдаты, которых, верно, пригнали сюда тайком делать грязную работу, облепили его со всех сторон да хотели заставить работать на себя. У него ж на них рука не поднялась – в каждой роже мерещился ему сержантик, это был страх ударить да ненароком убить. Он их убить боялся, а они-то его пинали, терзали, покуда не заявился из ночи какой-то сильный человек, от одного взгляда которого они расползлись по работам, по углам.
Матюшин притащился в лазарет, загнал тележку в стойло, поплелся на этаж, в свою палату, где уснул крепким натруженным сном. А рано утром, когда все еще спали, его отыскал по палатам и разбудил, похоже, глаз не сомкнувший, еле ворочающий языком узбечонок – пора было ехать в полк.
Три раза на дню он братался с Вахидом, возил в полк тележку, мыл посуду и котлы, таскал наверх пайку каптерщику. Каптерщик не отпускал без того, чтоб не пнуть в спину. В полночь, когда свозил в столовую отходы, поджидали голодные, забитые солдаты из кухонного наряда. А с утра до ночи томился он в хозблоке, лишившись чего-то большего, чем свобода, оставаясь один на один с узбечонком.
Тот был туповат, плохо умел соображать, так что на него все обычно орали. Но крики никак не действовали на него, оставался он глух. Работы у него в лазарете было с полпальца, потому что ничего он не варил, не жарил, разве что для дружков да для себя, а получал паек готовым из полковой столовки – сам же он нарезал хлеб громадным тесаком, с которым не расставался, всегда носил его в руках, точно он был частью его. А если не в руках, то в сапоге. Весь день сидел в хозблоке, выходил наружу только ночью.
Оказалось, что повар был местым, родиной его был какой-то колхоз под Ташкентом, к нему ездили через день жена, младшие братья, привозили ему из дома еду. Но и солому эту привозили, он прятал в мешочке под печкой и давно сошел с ума, высыхал да умирал на глазах от этого курева. Повар улыбался тупо да отмалчивался с лазаретными, но хитро так прятался в нем сумасшедший, молчком да с улыбочками. Если ж он что-то чувствовал, к примеру, начинал бояться, то страх овладевал им всем, вываливался грыжей из души, а испугать его так, насмерть, могла брякнувшая на полу пустая кастрюля. Работать он и вправду не мог, его уж и нельзя было даже заставить работать. По ночам он не спал, потому что не мог спать, как человек, если только не обкуривался до бесчувствия. И то, что ножа не выпускал из рук, имело особый смысл – хлебный тесак был той ниточкой, что единственно связывала его с жизнью, иначе он вовсе ничего не чувствовал, не понимал. Он убивал себя, но будто бы играл со смертью, ставшей для него безлично чьей, а никто этого не ведал. Он подстерегал Матюшина, когда они оставались в хозблоке наедине, дожидаясь мига, чтобы тот нагнулся или присел на табуретку, и тогда подскакивал сзади и прихватывал его горло тесаком. Когда случилось это в первый раз, Матюшин только и успел растеряться от неожиданности его прыжка. Подумал он, что повар петушится, попугивает, хотел откинуть его руку. Узбечонок же весь задрожал, сдавил горло тесаком, ничего не говоря, и тогда, выпучивая глаза, Матюшин, как и он, задрожал. Этот его страх смерти потихоньку успокоил повара, а может, и спас жизнь
Тронуть его Матюшин тогда остерегся, но после второго такого раза, пережив то же самое, выждал, что опустился нож, и с маху об стенку пришиб. Узбечонок и сделался как пришибленный, забился в угол. Но через день все повторилось. Обкурившийся повар уж заставил Матюшина осесть на пол, заполз с ним в угол, не отнимая от горла тесака, готовый чуть что полоснуть. Никто б не пришел на помощь. Спросонья добегали разве до сортира, в остальных частях здания даже не положено было гореть свету – хозблок погружался в ночь, будто с дырой в днище, захлебывался ее черными водами и тонул. Узбечонок, пьяненький от курева, требовал поминутно ответа, хороший он человек или нет, гуляет на воле или нет его жена. Матюшин сказал, что хороший он человек, и, получив отдышку, ответил и про жену его наугад, что хорошая она женщина, но тесак впился в его горло. Повар взвыл дико, давая ему какой-то миг, и Матюшин вскрикнул, цепляясь судорожно за слова:
– Да блядь она, блядь!
Узбечонок опустошенно замер, потом заплакал и жгуче принялся спрашивать то же самое, слыша уж только этот ответ, который отчего-то завораживал его. Забывшись, он стал рассказывать про жену, жаловаться, что она хочет его убить, приносит отравленную еду и что у нее уже есть другой муж, который тоже хочет его убить. И пытал он Матюшина, как если бы тот мог знать правду. Матюшин твердил вслед за ним, будто эхом, что жена хочет его убить, и это длилось полночи, так что и он уж отвечал узбечонку как в бреду, а стоило шелохнуться и замолчать, повар тут же взвивался и начинал дрожать. После до того он забылся, что выпустил наконец тесак. Желание им овладевало покурить свою сигаретку, другая уж мучила дрожь. Матюшин, думая, что сбежал от него чудом, остаток ночи не спал. Но узбечонок утром пришел за ним полуживой, будто до утра кто-то его самого пытал да мучил в хозблоке. А пора было в столовую, получать паек. Повар сказал ему вставать, а сам свалился на свободную, пустую, уснул.
Узбечонок приплелся в хозблок под вечер, когда в лазарете давно отужинали, и полез голодно под плиту. Он покурил, забившись в тот угол, где отсиживали они вдвоем ночь. Матюшин, стоя к нему спиной у мойки, почуял гремучий душок травы, что змейками расползался по хозблоку. Чуял он каждый миг, что повар оживает, уж таится молча в углу. Потом он выкарабкался и стал бродить без дела, так ничего и не говоря, сам по себе. Крадучись, вышел в пустую столовую, ходил там, и шаги его то были слышны, то пропадали, будто вышмыгнул из столовой. Извелся, воротился в хозблок и раскричался на Матюшина – был им недоволен, а в руке его уже болтался тесак. Но тут Матюшин встал как вкопанный и обрушился на повара не криком, а возмущенным шквальным ором, в который вложилась вся его душа. Узбечонок съежился и глядел на него тускло слезливыми, злыми глазками, как если бы тот не орал, а ударил. И он ударил по руке, выбил тесак, а потом схватил узбечонка, поволок, разбрасывая с грохотом посуду. Матюшин бил его, думая, что убивает, упиваясь каждым звуком, вырывающимся наружу из этого хилого, гнилого тельца.
– Я тебя убью! Убью! – вопил Матюшин, чуть не теряя сознание от пронзающей мучительной сладости, волоча его, полудохлого, да швыряя об стены. – Убью!
И от этих же слов пришел он в себя, образумился. Но вовсе не пожалел. Повар был живой, живуч, и стоило бросить его, как он стал сам двигаться, а скоро и взобрался на табурет.
– Вот так и сиди. Сидеть! Поял?! – крикнул отупело Матюшин, будто собаке. – У меня отец армией командует, танками, самолетами, у меня брат Герой Советского Союза, а ты кто такой, ну, кто ты такой? Ты чурка, чурка… А ну встать! Вста-а-ать!
Оглушенный узбечонок встал через силу и беззвучно заплакал. Прошло сколько-то времени, за оконцем смерклось, Матюшин бросил его и пошагал за тележкой. Забыл о поваре и думал всю дорогу, что в столовке его поджидают, а пройти-то их нельзя и надо будет с ними сызнова биться. Но уборщики из кухонного наряда, что каждую ночь проходу не давали, слили сами отходы и ничего не посмели ему сказать, хоть Матюшин просто стоял с опущенными руками, глядя на них, и молчал. Когда же воротился в хозблок, то повар успел обкуриться и валялся пьяный, похожий на собаку спящую. Матюшин пнул его от какой-то обиды, посидел с ним в тишине подвальной хозблока, а потом пошагал на этаж, надо было спать.
Повар без труда мог разделаться с русским чужими руками, отомстить ему так, что и следа б его не осталось в лазарете, но стерпел. Все повторялось изо дня в день – и унылое, на двоих, заточение в хозблоке, и одурение беспробудное повара, и эти побои. Но бил его Матюшин уже с расчетом, зная ту минуту, когда надо было его пришибить, и становился он тихий. После битья повар и вправду успокаивался, хоть чуть не всегда плакал, будто со слезами и источался из него какой-то яд. От слез этих делался он Матюшину противным, и обращался Матюшин с ним как со своим служкой, вот только всю работу сам делал, за двоих, брезговал его заставлять.