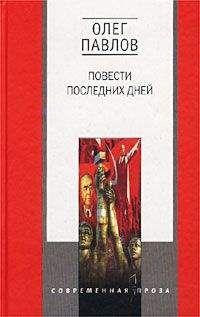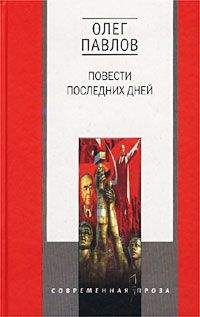Олег Павлов - Дело Матюшина
Все должны были в лазарете работать, обслуживать самих себя и военврачей. Матюшину выдали костыли, приказали вставать. Ноги были забинтованы по колени, будто обули в белые валенки. Стоять на костылях давалось тяжело. Первое, что сделать сказали, – сдать на анализ мочу. Медбрат выдал ему майонезную баночку без крышки. Впихнув ее в карман халата, Матюшин поковылял в нужник. Силился справиться с банкой, да никак это не выходило у него. Все, что смог, – сдернуть трусы, а подставить банку – на это не хватало рук, выскальзывали из-под мышки костыли. Он поставил банку на подоконник, подковылял к параше железной, потому что и терпеть-то после возни этой не хватало у него сил. В нужник забежал какой-то облегчиться, опущенный с виду, бритый, как в издевку, лесенкой. Матюшин пролаял хрипло, держа в руке банку, точно камень:
– Слышь, браток, ты не заразный, помоги на анализы мне…
Опущенка послушно все исполнил – и исчез. У Матюшина отлегло. Надо было теперь донести мочу эту чужую до медбрата, она пролилась в кармане, покуда он скакал да тащился, и медбрат не смолчал, видя мокрое пятно у него на боку:
– Ну, чего, браток, никак обоссался?
Народец лазаретный строился в садике; командовал, расхаживая перед строем, лазаретный старшина – важный усатый солдат, ничем не больной, а как раз самый упитанный, здоровый. Все звали его кто «бугром», кто «бригадиром», как на стройке. Он всем давал работу, сказал и Матюшину, не глядя, что тот на костылях, дорожки выметать в саду. Матюшин тут же в строю отказался это делать. Подумал, что бригадир над ним потешается. Тот подошел к нему и ударил по одной, потом по другой щеке наотмашь, а Матюшин и руки поднять не мог, от костылей оторваться, чтоб хоть укрыться. И хлестал его бригадир по щекам, покуда не вступился соседний паренек – заслонил Матюшина собой, упросил усатого, что возьмет работу на себя.
Назавтра бригадир снова приказал Матюшину подметать дорожки, но Матюшин теперь смолчал, хоть и не понимал, как сможет держаться на костылях и работать метлой. Дорожки обсыпала сгоревшая под солнцем листва со скалистых, возвышающихся яблонь. Чтобы мести, надо было не иначе как встать на ноги или хоть на одну опереться, и он, обозлившись уж не на бригадира, а на себя самого, на поганые костыли, оставил себе один костыль, взял в свободную руку метлу. Управляться одной рукой было все одно что ковыряться метлой, но потихоньку да полегоньку листву он с первой дорожки смахнул.
На другой день Матюшин увидел, как это бывает, когда выписывают из лазарета. Выписали одного, который долго здесь жил, работал посудомойкой. Он был приметный, задиристый, о таких тут говорили, как на зоне, что он блатует. При котлах он, верно, и отъелся, вольный стал, а когда шикнул бригадир, что приказал начмед манатки собрать и шагать в роту, то весь он превратился на глазах в жалкий комок. В обед еще было видно его вспухшую, багровую рожу в окошке раздатки, но это не понравилось бригадиру – что еще не ушел. Он спокойно отобедал и другим дал свое доесть, а потом зашел в ту укромную полутемную комнатушку, в которой работали повар с посудомойкой, – и все услышали грохот и истошные крики. Но смертоубийства миг тоскливо покрылся только что взъярившейся грызней, стали доноситься шумы и пыхтение, будто двигают что-то тяжелое. Все дожидались, не расходясь, чья возьмет, никто не встревал. Минут через десять возня в пищеблоке смолкла. Из тишины явился целый и невредимый усач, волоча по полу задыхавшегося, будто пробитого гвоздями, скрюченного посудомойку.
– Я тебе сказал, тебе, чтоб к обеду духу не было? Тебя как, по-хорошему просили? Ты решил, что ты умней? – допрашивал его, свирепея от своих же слов, бригадир.
– Убьютясукааа! – визжал тот.
– Ты… Ты из себя психоватого тут не корчь!
И зашевелились стоящие без дела, желающие поскорей кончить, опустить уж никому не важного своячка.
– Что сказали? Ты не поял, не поял, падло! – посыпалось из всех ртов, и его уж не стало слышно.
А через неделю на перевязке с Матюшина сняли вдруг бинты. Ноги зажили. Но этого и невозможно было Матюшину постичь. Зачем они нужны ему такие, здоровые, он теперь, когда отнимали у него костыльки, не понимал. Здоровый, а не скрюченный, на костылях, Матюшин казался сам себе ненужным, обреченным. Было ему так одиноко, будто войдет в перевязочную кто-то, какой-то человек, который его отсюда навсегда прогонит. Всю эту неделю он работал – подметал дорожку в саду, дежурил на людском нижнем этаже, был на побегушках у врачей, таскал по зову лекарства да бумажки. После перевязки, когда сняли бинты, отобрали костыли, он ушел на этаж и затаился, не зная, что с ним теперь будет. Бригадир разгуливал по этажу, не замечая его, и Матюшин мучительно гадал, есть ли приказ выписывать его, что скажет начмед. Но вечером усатый подозвал его, добрый, что прожил в покое еще один день, и дал работу:
– С утречка ты дуй в хозблок, будешь вместо этого… Я повару обещал, что человека дам, а ты вроде без костылей стал, ходячий, но гляди у меня, заблатуешь – враз на берег спишу! И плакала мама!
Повар встретил Матюшина поутру с ножом в руке и долго не пускал на порог хозблока, заставляя стоять средь пустых столов. Этот худенький узбек, походивший на подростка эдак лет четырнадцати, казался безвредной змейкой, ползающей, но не могущей жалить. Снизойдя, он впустил Матюшина, сказал сесть и сунул ему в руки миску с кусками холодной свинины, выуженной, верно, из щей обеденных, рубанул полбуханки хлеба. Так он показал, что он добрый, если захочет, и жратвы ему не жалко. Есть же Матюшин не хотел, но стал волей-неволей жевать, больше оглядываясь вокруг. Узбечонок был доволен им, думая, что приручил. Он же был Матюшину по грудь, и, только когда Матюшин сидел, они становились одного роста. Хозблок был изнутри именно каким-то блоком – квадратура, обложенная от пола до потолка водянистым кафелем, будто по стенам стекала вода. Здесь было как в бане, а воздух стеклянисто стоял у распахнутого настежь оконца, так что внутрь проникал только жаркий солнечный свет. Узбеку жара была нипочем. Решив, что служке хватит жрать, он показал, какой может быть злой, и, выхватив ни с того ни с сего из рук у него миску, тявкнул, ощерясь, чтобы становился у раковины.
То была даже не раковина, а огромный медный чан со сваленной в него алюминиевой посудой. Узбечонок подпрыгнул, уселся на высокий подоконник, глядя свысока на его работу. Когда посуда и котлы были перемыты, он сказал Матюшину мыть полы в столовой комнате и опять глядел на него, ползающего с тряпкой, из оконца раздатки. Когда были помыты полы, он сказал мыть в хозблоке, а после хозблока сам подустал и показал опять, какой он может быть добрый, возвратил Матюшину миску, сказал есть. Матюшин уж чувствовал откуда-то голод, а может, был это и не голод, а сосущая нутро злоба. Сколько прошло времени с обеда, он не распознавал. Узбечонок напялил на сухое змеиное тельце белую поварскую робу и погнал Матюшина в дорогу – пора было брать тележку и везти ее в полк за пайком.
За оградкой лазарета было ему шагать так же чудно, как по улицам незнакомого города. Повсюду, куда б ни устремлялся его взгляд, стояли глухой обороной казармы, тянулись неведомой связью асфальтовые дорожки, тропиночки из асфальта, росли одинаковые деревца. Никто им не встретился, только при подходе к столовой набрели они на толпу солдат. Узбечонок приосанился, стал понукать да покрикивать. Чугунная тележка на трех колесах туго поворачивалась, Матюшин тащил ее спереди, а потому, верно, если на кого и походил, то на лошака. Пищевые канистры бились друг о дружку, издавая медный звон, из-за которого толпа уставилась на них, так что Матюшину сделалось не по себе средь той толпы, а повар еще подбежал и огрел его по спине кулаком. Солдатня одобрительно заухала – карантинщика живого они еще не видели, а узнать такого в Матюшине было нетрудно по чуть обросшей ежистой башке. Ему стали кричать, чтобы он вешался, но так же одобрительно, довольные, что эти уж при тележках, что тащат службу. Матюшин видел их штампованные, с медный пятак, лица – будто их жизням цена была с пятак.
А в огромной поварской, в которой бы утонула дюжина их хозблоков, где торчали три похожих на колодцы варящихся котла, сошлись поглазеть на карантинщика все, кто обретался при столовке. Все сплошь похожие на его узбечонка, так что Матюшин утерял его из виду. Он таскал канистры с лапшой, а заливал ему из колодца, взгромоздясь на табуретку, опущенный ихний служка, в грязной до коричневы солдатской робе, который поспешал тараканчиком и радовался, что оказался заодно с ним у всех на виду. Он что-то командовал Матюшину на их языке, а узбеки-повара смеялись, глядя на то со стороны. Никто ему не сказал и слова по-русски, а вся потеха была в том, что он не понимал, чего ему кричат, верно, делая наоборот, а может, и как хотели они. Он изготовился к тому, что станут бить, но, когда все сработал, утихомирившиеся узбеки отвернулись и разошлись. Уж со двора получили они хлеб, и хлеборез, здоровый жирный узбек с бычьей шеей, которого Матюшин выделил еще в поварской, смеялся над ним тут, сидя на перине ржаной из хлеба, а потом подозвал, спросил, как зовут, а узнав, что Василием, сказал про себя, что он Вахид. И сказал, довольный, что делает его, по-ихнему-то Вахида, своим братишкой, даст ему отныне, если надо, помощь в полку, а тот пускай называет его братом. Брат с братишкой, если встретятся, должны обняться – и он показал, как это надо делать, гулко рассмеявшись.