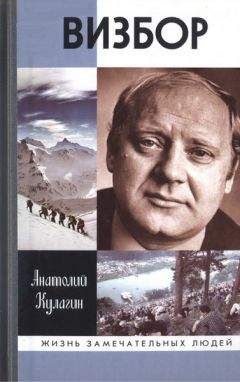Юлий Ким - И я там был
произнес Михайлов задумчиво собственные стихи, наполненные медленным гудом колокола. Перед глазами всплыл анапкинский берег, и опять потянуло к маяку – сначала, правда, надо найти, согласно плану, Полякова в Шаромах, а там уже все, там уже курс на Ильпырь, без никаких.
Они спустились к «москвичу» и двинулись по вечереющей долине вдоль морского берега слева и тающей в закате череды сопок справа. Грунтовая дорога была широкая, плавная, вся в пологих гладких рытвинах, с там и сям блестевшей на закате водой от недавних дождиков, и Эженов «москвич» до того приятно вальсировал между ними, что Михайлову ужасно захотелось порулить самому. В нем было живо это упоительное чувство вождения, передавшееся ему от множества знакомых автовладельцев, особенно от Ромы Гринблата, ленинградского композитора, обожавшего кататься на «жигулях», ухаживать за женщинами и сочинять додекафонную музыку. Похоже было, что Рома получал эстетико-эротическое удовольствие в равной степени от каждого из перечисленных занятий. Ленивое природное изящество сквозило во всех его движениях, машина шла по любой дороге как по маслу. Единственное, что отличало Рому за рулем от Ромы за роялем – это беспросветный биндюжный мат по поводу всех остальных водителей, какие только попадались на пути. Лучшее, на что он был способен по отношению к ним, – это не удостаивать внимания. Дальше следуют лишь разные степени классовой ненависти. Впрочем, после того как на тесных извивах Выборгской дороги длинный прицеп чуть не загнал Ромин «жигуль» под встречный «икарус» – нарочно! – Михайлов начал понимать истоки этого гнева. А так-то Ромин стиль вождения – это был класс, «Дунайские волны», ничего другого Михайлов для себя бы и не желал, если бы дошло до дела. Во всяком случае, во сне у него получалось настолько хорошо, что ощущение свободного умения не оставляло его и наяву: казалось, стоит только сесть за руль – и он поедет.
– Да сколько угодно, – сказал Эжен.
Они пересели, – и он поехал.
На первой скорости, чуть прибавляя или притормаживая, огибая плавные склоны луж или прямо пересекая желтые закатные зеркала, он вальсировал, счастливый – как давным-когда-то-давно, мягко в ритме наклоняясь то вправо, то влево, кружился с прелестной химичкой в Анапке на школьном балу, танцевавшей так упоительно, что чуть не женился… чуть не женился, да… Предложение сделал. В виде заявления: «Прошу выйти за меня замуж». И положил на стол перед ней:
– Извольте резолюцию.
Она улыбнулась и начертала в углу:
«Дай мне, дуре, подумать».
– Неделю хватит?
– Хватит, – засмеялась она, и ясно было, что хватило бы и дня.
Но – неделя так неделя, а на третий день роман его расстроился. Ну прямо по Толстому, рассказ «После бала». Он шел по школе и вдруг услышал яростный голос, в котором не сразу признал свою любовь. Невеста его так злобно орала на кого-то, что не надо было больших усилий, чтобы представить себе семейную сцену в ее исполнении. Чувство немедленно увяло, не успев расцвесть… Видно, неглубоко еще пустило корни.
Впрочем, через месяц он уже гулял на ее свадьбе: рослый гардемарин из Калининградской мореходки, претендент № 2, счастливо воспользовался Михайловской самоволкой.
В разгар свадебного веселья, когда объявили «белый вальс», невеста подошла к Михайлову, и они пустились, как прежде, мягко наклоняясь вправо и влево. Она смотрела на него с вызовом (жалеешь небось?), а он на нее – смущенно (ибо не жалел), так что оба вальсировали с редким наслаждением.
Похожее удовольствие он испытывал и сейчас, перекладывая руль вправо-влево, въезжая – выезжая – объезжая пологие лужи грунтовки. Пока вдали не показался встречный грузовик. Руль тут же перешел к Эжену, и на завтра был непременно назначен урок автовождения по дороге в Шаромы, к Полякову, бывшему анапкинскому физику, уникальному человеку. Сто лет собирался достать его Михайлов, услышал краем про Шаромы, послал наобум письмо на школу, и зацепило письмо, выудило Володю через двадцать лет, то есть, если без метафор, Володя откликнулся в своей манере, горячо и косноязычно, не изменился, значит.
Всего-то год поработали они вместе в Анапке, а запомнился Михайлову он – на всю оставшуюся жизнь. Такой светлый человек, совершенно чистосердечный. Спортивный, быстрый, легко и озаряюще улыбчивый. Абсолютно бескорыстный. Никакого честолюбия, или там зависти, или злопамятства. Если на кого обижался, то как-то по-детски жаловался и вместо: «сволочь Райка, такую подлянку мне подкинула» говорил: «ну почему, почему Раиса Ивановна так несправедливо поступила?». И уж конечно, во всех видах взаимопомощи и общественных работ он был первым и уходил последним. Тут надежнее его не было человека – и радостнее тоже, потому что ничего нет на свете лучше, чем вот так вот, дружно, всем вместе – перепилить две тонны дров школе на зиму, на солнечном морозце, со смехом и шутками, да желательно тут же их и переколоть, но главное – что вместе, дружно, по-хорошему. Не знаю, как вам, – мне это тоже близко.
Вот уж с кем было похожено в походы, и когда у себя в Москве Михайлов перебирал драгоценные свои камчатские архивы, он сразу же натыкался на Володино лицо и разом вспоминал его самым солнечным воспоминанием.
Хотя, было дело, напугал Поляков народ до ужаса – но тоже на свой, поляковский лад.
Однажды Михайлов отправился в поход со своими школьниками, и Володя с ними, но не как руководитель и педагог, а как вольный попутчик – тем летом предстояло ему идти в армию, и он хотел напоследок побродить по окрестным красотам автономно, не подлаживая своего стремительного шага к общей медлительной поступи. Тем более что поход по тундре мог быть стремительным только для него, легконогого. Впрочем, до привала он шел наравне со всеми, так как нес, естественно, самый неподъемный рюкзак, да по дороге нацепил сверх того и еще парочку, облегчив жизнь двум барышням из 7-го класса, впервые пустившимся в это испытание. Он мгновенно поставил все палатки, разложил костер и умчался в сопки провожать закат, вернулся затемно и быстренько улегся, чтобы наутро поспеть к рассвету. И хотя Михайлов проснулся не так уж поздно, Володи уже не было, а на его спальнике белела записка: «Привет покорителям Камчатки! Эх, вы, сони! Такой рассвет начинается, а вам бы все дрыхнуть! Да здравствует солнце, да скроется тьма!».
Однако судьба игнорировала его восклицания. Солнце здравствовало недолго: откуда ни возьмись, наплыл широкий караван скучных туч, уселся плоским днищем на верхушки сопок да так и застыл – хорошо бы на денек, а то на неделю. Дождя из него, слава богу, почти не было, так, немного сеялось что-то мокрое время от времени – но просвету не было уже никакого.
Однако в тот, первый, день надежды юношей еще питали, записка была оглашена, и после завтрака с бодрыми возгласами: «Догоним Владимира Алексеича!» команда Михайлова полезла в сопки воссоединяться с романтическим физиком. Некоторое время спустя, уже среди нагрянувших туч, обозначилась триангуляционная вышка с еще одной запиской от неугомонного нашего: «Привет первопроходцам! Впереди все новые вершины! Кто догонит, тому шоколадку!»
Далее след его потерялся, время склонялось к обеду, команда вернулась на базу и, отобедав, прикорнула, а Михайлова (впечатлительный мой) стала точить тревога, возрастая от часа к часу. К вечеру он разослал во все стороны небольшие поисковые группы, а сам с второгодником Юрой отправился вглубь узкого ущелья, оглашая гулкие сумерки призывными междометиями. Мрачная тишина была им ответом.
Ущелье сузилось и кончилось кручей, уходящей в ночные тучи. Надлежало возвращаться. Михайлов вытащил беломорину. Юра отвернулся. Ему зверски хотелось курить. Михайлов протянул ему папиросу. Юра отошел к кустам и быстро-быстро задымил в кулак. Хотя вокруг на километр не было никого, кто мог бы заметить это педагогическое преступление.
Ночью еще и заморосило. Михайлов отрядил парочку ребят покрепче в Анапку за помощью, а сам опять потащился по мокрым склонам кричать и аукать. С тем же успехом. Пошли третьи сутки Володиного отсутствия – необъяснимого, ибо невозможно заблудиться в этих уютных сопочках, где все ручьи выводят в открытую тундру, а на ней-то мы с нашим биваком и неугасимым костром – как на ладони. Стало быть, что-то непонятное произошло и безусловно страшное: налетел на медведицу с мишенятами; оступился на круче, сломал ногу, спину, голову; встретил беглого убийцу… Судя по оставшимся вещам, убыл он в одной рубашоночке и без еды.
Третье утро выдалось сырое и тусклое, но все-таки без дождя и тумана, и это помогло уже издали заметить устало ковылявшую в сторону бивака знакомую фигуру.
– Как же тебя угораздило? – спросил счастливый Михайлов, когда блудный сын утолил трехсуточный аппетит.
– Понимаешь, елки зеленые, – сказал Володя, – как тучи налетели, смотрю – ничего не вижу, где запад, где восток, точно: заблудился. Ну и вспомнил, еще со школы: если заблудишься, выбери какое-нибудь одно направление – и вперед, не глядя, куда-нибудь выйдешь. И пошел я влево. Ну, в общем, и вышел, только далеко.