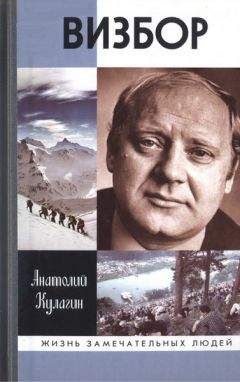Юлий Ким - И я там был
Что значит неподдельное чувство.
Ан-2 прилетел, забрал, в районе спели «Осеннюю путину» и «В защиту мира», всех потрясли, но в область опоздали, сорвала им пурга первое место, и в Питер Михайлову было лететь одному. Ладно. Артистов его дорогих встречным ветром отнесло назад, в прошлое – ладно, даешь Елизово, аэропорт, лайнер пошел ввысь.
Он прилетел в Москву, никому не сказавшись, 31 декабря днем, а вечером уже звонил в заветную дверь. Она открыла ему. Столько счастья и света никогда еще ему навстречу не сияло.
Как только она получила аттестат, они поженились. Жизнь их совместная сложилась не сразу, центробежные силы давили так, что узы трещали и лопались по швам, однако не лопнули, и однажды они дружно удивились: как! Неужели уже двадцать пять лет? Серебряная свадьба, однако.
А что же Камчатка? А она так и осталась для Михайлова пожизненным магнитом, только теперь это была ровная постоянная тяга, а не болезненный психоз с целованием почвы. Осталась единственная маниакальная идея – добраться до Ильпырского маяка, если ты честный человек.
На Курском вокзале зеленый вагон тихо двинулся и поплыл на Полтаву, бесповоротно и окончательно отпуская Михайлова на целых два месяца свободной камчатской жизни. Приятное чувство. Он-то давно уже понял, как важно и полезно разлучаться время от времени. Каждая разлука заканчивалась четко выраженным стремлением домой. Узы от этого только крепли. Она – нет, она ничего подобного не провозглашала, она не любила его отпускать. Риску давно уже не было никакого, но, видимо, те прошлые его центробежные порывы напугали ее навсегда. Однако она понимала и то, что неотпускание лишь поощряет центробежность. Приходилось на разлуку соглашаться.
Михайлов, как водится, проводил зеленый вагон – сначала несколькими шагами, затем глазами, поезд скрылся, Михайлов повернулся идти в метро, и тут его озарило: с этой секунды начинается его движение к маяку, с первых же вот этих шагов в мраморную пасть подземки – на «Курскую», затем на «Автозаводскую», а там уже электричкой на «Домодедово», и все это туда, туда, на дикий берег Ильпыря, к обветренной двухэтажной башне с немеркнущим огненным глазом…
Три сказочных богатыря, три седых красавца – Авачинский вулкан, Корякский и Козельский – фирменное трио Камчатки, осеняющее воздушные ее врата, елизовское летное поле – Михайлов всегда испытывал неудержимое желание поздороваться. Романтик мой. Он и поздоровался:
– Привет-привет… Привет, дорогие мои.
Встречал его друг сердечный Эжен, Евгений Терентьич, мореходный доцент (станки и инструменты), невысокий спортивный крепыш (бывший мастер гимнастики), старательно разрушающий свою спортивность интенсивным питием и постоянно восстанавливающий ее обливанием себя студеной водой каждое утро, в том числе и зимой, на глазах двух пятиэтажек, украшающих собою начало Проспекта имени пятидесятилетия Великого Октября. В одной из них – его двухкомнатная, полностью в его распоряжении: жена покинула его ради мистера Фореста (США), а любимая дочь – ради обучения в Бостоне, как следствие. Пол-квартиры все-таки числилось за дочерью, Эжен отвел себе самовластно гостиную с диваном, книгами и телевизором и на соседнюю территорию (спальню) не покушался.
Кухня была, естественно, ничейной полосой, где помещался огромный холодильник с морозилкой, забитой синими ножками Буша. Синие скромные ножки… Синенький скромный кусочек… Интересно, как бы отозвался на это сам экс-президент. Возмущенно задрал бы брюки?
Михайлов, давно отстраненный семьею от плиты, здесь тряхнул стариной и потушил ножки не так уж плохо для отстраненного. Эжен взирал с большим почтением: мало что песни сочинять – еще и кур тушить может. Со своей стороны он украсил трапезу бутылкой «Наполеона», которому последнее время отдавал исключительное предпочтение, тем более получив отпускные, все отложенные для похода с Михайловым «на севера»:
Я возьму с собой в охапку
Нож, рюкзак, ушанку-шапку,
Как чудак на букву «М».
Кто в Анапу – я в Анапку:
Это много лучше чем!
У Михайлова было несколько пунктов, подлежавших исполнению в этом путешествии, среди них: искупаться в Тихом океане, непременно в поле зрения фотообъектива; отыскать во глубине Мильковского района Полякова Володю, с возможным прихватом его с собой на север – ну, и дойти до маяка. Достигнуть его, обязательно. Словно все те разы, когда он шел, да не дошел, взывали к нему – докончить незавершенку.
На бывалом Эженовом «москвиче» поехали они к «Трем братьям».
Петропавловск расходится террасами над красивейшим в мире заливом – Авачинской губой. Оттуда, из-за вулканов, выкатывается полноводная лососевая Авача и рассыпается массой рукавов по Авачинской пойме, выходящей в широкое овальное зеркало губы между островерхими сопками в снежных тюбетейках. Они со всех сторон окаймляют его, но не смыкаются, оставив просторное горло, за которым океан во все стороны, за горизонт, до Америки. Здесь-то, в горле, и торчат они – три кости, три каменных паруса – «Три брата».
По дороге к «Братьям» заехали в небольшую бухточку для исполнения пункта первого программы. Место уютное, с хорошим входом в воду. Чуть подальше виднелись еще какие-то люди. Они там, правда, не купались. Может, выпивали, бог с ними.
А недавно Михайлов купался на противоположном берегу океана. Почему он и желал окунуться на этом – потому что на том уже побывал, месяца три тому, в Лос-Анджелесе. Сюжет надлежало завершить. Хотя бы затем, чтобы отослать в Калифорнию две карточки с одним приблизительно содержанием, но с разными надписями: «Я на Западном берегу Тихого океана»; «Я на Восточном его же берегу». На память Яну, по старой памяти принимавшему его в Городе Ангелов. Преуспевающий геофизик таки выделил полдня для совместной прогулки, сразу же спросив: «Ну? Куда ты хочешь? По Голливуду или вдоль моря?» И Михайлов, позорник, сказал: «Вдоль моря» – как будто осточертел ему Голливуд, глаза бы не глядели, а моря – век не видал, хотя, кажется, не так уж давно нахлебался выше горла этого Средиземного, под вечно голубыми небесами Израиля.
Ян отвез его на пляж, совершенно пустынный. Михайлов зашел в воду по колено, принял позу, сделав пальцами «Викторию» – Ян щелкнул – и пошел рассекать набегавшую волну. Как вдруг с берега послышался тревожный крик Яна, и, глянув вдаль, куда тот показывал рукою, Михайлов похолодел: метрах в ста от него два черных плавника наискось пересекали намеченный маршрут. Что есть духу пустился он назад и уже с берега смотрел, как эти зловещие черные треугольные ножи, равномерно выныривая и погружаясь, продолжали свой хищный путь.
Потом, уже в Москве, получил он из Америки письмо с вырезкой из газеты того же числа, где сообщалось о супружеской паре дельфинов, путешествовавших у берегов Лос-Анджелеса, с фотографией черных треугольников. Михайлов смотрел на них растроганно, как на земляков.
На этом краю Тихого не было ни пальм, ни дельфинов, надеяться можно было лишь на атомную субмарину, какие здесь водились и плавали, но все же не каждый день… Холоднющая вода, песочек черный, вулканический. Дух сходу захватывает, но после минуты энергичных движений – отпускает, ничего. Плыть можно. Эжен только успевал щелкать, потом и сам полез, за дельфина…
Двинулись дальше и скоро поравнялись с небольшой группой народу, которую еще раньше заметили невдалеке. Оказалось, не купальщики, не выпивальщики, а милиция. И стояли они над мертвым телом.
– Бригада тут вчера гуляла, – пояснил старшина. – Допились до чертей. Этому не хватило, пошел в лодку за добавкой, и ну нету его и нету. Пошли, покричали его, решили – домой почапал, ну и хорош, мужик здоровый, чего ему сделается. Утром вернулись домой – а он и не приходил. А они-то думали, он дома давно, а он – вон он. Заночевал, блин. Видать шагнул в лодку да промахнулся. А тут сразу глубоко. Переохлаждение, то, се, ну и сердце, видать. Пьянка наша. Был бы бич, еще ладно, а то ведь семейный, сорокотина [то есть немолодой уже. – Ю. К.], две пацанки. Но, правда, керогазил, как никто. Докерогазился.
Из-под грубой мешковины виднелась крупная голова с белым лицом в глубоких морщинах от ветра и спирта и мощная белая кисть, тоже в глубоких морщинах от палубной работы, перехваченная в запястье стальным ремешком часов с крупными цифрами. Секундная стрелка еще тикала, а его-то время уже сутки как кончилось, а она, видать, думала, он спит.
Дорога уткнулась в склон, они оставили машину, полезли на кручу, поросшую реликтовой камчатской березой с прихотливо изогнутыми стволами, и там, наверху, в березовом изощренном обрамлении открылось просторное окошко – как раз на горло Авачинской губы, с «Тремя братьями» прямо перед носом. Темными ножами торчали они над нежной серо-голубой водой, а сзади их неторопливо перепиливал длинный белый пароход какой-то.