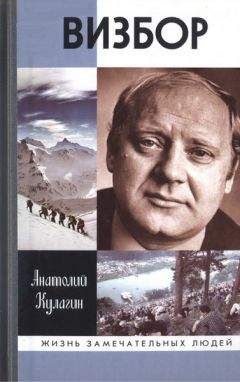Юлий Ким - И я там был
И небрежным жестом так и отшвырнул в сторону смятую пачку этих никчемных газетенок.
– Или вот это еще, – он взял стакан, опустил голову, потом резко вскинул, и в глазах его блеснули гневные слезы: – Господа… (пауза). Я предлагаю тост за матерей… (пауза) которые бросают детей своих. (Окинул взором публику, убедился в произведенном эффекте и мягко продолжил.) Пусть пребывают они в радости и веселье… пусть никто и ничто не напомнит им об участи несчастных сирот… (Остерегающим жестом оградил матерей от неприятностей.) Зачем тревожить их? (как бы недоумевая) За что смущать их покой? Они все, что умели, сделали для своего чада. (С нарастающим сарказмом.) Они поплакали над ним. Поцеловали более или менее нежно и (помахав ладошкой) – прощай, мой голубчик, живи как знаешь. (Вдруг резко наклонившись.) А лучше бы ты умер! – и Кузьмич, обведя глазами обомлевшую аудиторию, гордо сказал: – А?
– Кузьмич… – только и вымолвил ошарашенный Михайлов. – Да как же ты… как же вы тут… в анапкинском говне… с таким талантом… Вы где служили-то? В каком театре? В Петропавловске, да? Да нет, во Владивостоке, не меньше!
– Бывало, бывало, – задумчиво и туманно произнес Кузьмич. – И в Петропавловске, и во Владивостоке… Тридцать пять тысяч одних курьеров… Суп из Парижа… Арбуз в семьсот рублей… Пора, мой друг, пора, – сказал он с невыразимой грустью. – Покоя сердце просит. И каждый день – та-рам-тара – уносит частичку бытия… Постой! – внезапно обернулся он к Иванычу. – Ты выпил – без меня? – и такая укоризна прозвучала в его голосе, что Иваныч, поперхнувшись и расплескивая, немедленно налил ему и себе:
– Давай, Кузьмич, за тебя!
Тот дал и, как всегда бывает это с алконавтами, мгновенно сомлел. Глаза потухли, скелет растаял, и тело неудержимо съехало на пол, Михайлову лишь осталось придать ему позу эмбриона и прикрыть старым пальто. Однако, прежде чем впасть в окончательное беспамятство, Кузьмич разлепил один глаз и погрозил пальцем. Это могло означать: «Учтите, я помню все…» либо «То-то, брат».
Рассказывают: встречаются Ойстрах с Ростроповичем. Ойстрах говорит:
– А мой бульдог в Лондоне на собачьей выставке золотую медаль получил!
Тот ему:
– А моему дворнику Нобелевскую премию дали!
(У Ростроповича тогда в дачной обслуге числился Солженицын для легальности проживания.)
Михайлов мог бы к этому диалогу присовокупить:
– А у нас в Анапке говночисты Шекспира декламируют!
И, не удержавшись, добавить:
– В подлиннике!
Путешествие к маяку
Михайлов на Камчатке бывал не однажды. Первый раз – после института, в 59-м. Последний – в 95-м. Как поется в одной его песенке:
Цифры переставилися, только и всего.
Правда, в песенке он шутил по поводу другой пары: «56–65». Развенчание Сталина и воцарение Брежнева.
Было пятьдесят
Шесть —
Стало шестьдесят
Пять.
Как умели драть
Шерсть,
Так и будем шерсть
Драть.
В нашем же случае симметричными датами обозначаются 36 основных лет взрослой жизни моего Михайлова, главный период, от молодого дядюшки (в 59-м как раз народился племянничек) до пожилого дедушки. В 95-м внучке Ксюшке стукнуло три годика, и молодая бабуля повезла ее на все лето в любимые Шишаки, отпустив Михайлова на любимую Камчатку. Бабуля уважала в муже эту его пронзительную любовь – правда, не без ревности. Уж очень ярко озарялось его лицо при воспоминании. Ей хотелось побольше таких озарений по ее, а не по камчатскому адресу. При этом она знала, что Михайлов не женщину вспоминает, а именно «тот уголок земли». Таким образом, формально говоря, она ревновала его к Корякскому национальному округу.
Далеко-далеко, на северо-востоке… хотя, что сейчас далеко? И тем не менее, тем не менее. Это до того далеко, что на краю тундры, среди морошки и свежих следов медвежьих, можно вдруг набрести на стройную колонию вполне аристократических темно-лиловых ирисов. До того далеко, что на беспечное твое пение сплываются нерпы – интеллигентные животные, наделенные музыкальным слухом. Конечно, петь надлежит, дождавшись полного штиля и достаточно громко. Тогда, глядишь, там и сям сквозь зеркало вод и повысунутся усатые матрешки. В этой-то прекрасной глуши и оказался Михайлов сразу после института. Поселок среди людей зовется Анапка – по названию ближайшей речки, и не подозревающей, что близ субтропической Анапы у нее имеется тезка, впадающая совсем в другое море. Юридически же поселок именуется Ильпырский – по названию ближайшего острова. Это такое длинное и пустынное плато со скалистыми краями, усеянными разнообразной птицей. Из поселка в профиль Ильпырь напоминает задремавшего сивуча, с маячком на прикорнувшем в воде носу. Маленькая башенка с огненным бессонным глазом. И в ночь, и в бурю, и в туман. Теперь-то он все, отморгался.
А тогда еще как моргал. Чем неотразимо действовал на романтическое сердце и зазывал Михайлова к себе, как загадочный гном, и зазвал, а как же. Трижды ходил он туда, с учениками и без, и эти походы на край света запомнились ему как особенно счастливые праздники жизни и стали сами этаким маяком для дальнейших мечтаний, и с середины 60-х попасть опять на Ильпырский маяк сделалось для него делом чести. Были две неудавшиеся попытки, с большими перерывами между – теперь это была третья, с высокой степенью вероятности.
От Ильпыря серой ниткой тянется песчаная коса – ласкательное: кошка, – к берегу расширяясь и приподнимаясь над морем как раз достаточно, чтобы разместить на себе поселок, с причалом, холодильником, цехами, складами, с клубом и школой, с тремя рядами жилых бараков вдоль двух улиц и пятью общественными сортирами на морской стороне на двадцать очков каждый. «Анапочка моя», – как поется в одной из московских песенок Михайлова.
За Анапкой коса кончается – дальше идет дикая тундра, вся в речках и круглых болотцах, широко подходя к подножью цепочки невысоких сопок, так нежно тающих в закатном солнце.
С первой же встречи тайный яд камчатских очарований помаленьку начал свое естественное дело, и через год, вернувшись в Москву с твердым намерением поступить в аспирантуру, где его уже с нетерпением ждали, Михайлов внезапно занимает огромную сумму, едет в кассу, берет билет, летит в Питер (Камчатский), летит в Оссору, нетерпеливо дожидается катера, выходит на Ильпырский пирс и – буквально! – припадает к земле. Ну не то чтобы распластался на грязном щебне, а все ж таки, как бы мимоходом поклонясь, дотронулся кончиками пальцев до щебенки-то, дотронулся, сентиментальный мой.
Он счастливо учительствовал подряд три года в этой забытой Богом школе с шестью всего классными комнатами с печным отоплением, от души потрудился, от пуза поплясал – но заскучал все-таки, захотел домой. Написал поэму, где черным по белому:
Уж я не сам по улице иду,
А улица сама мне ноги движет.
Уже давно, как брюки на заду,
Обтер я очи обо все, что вижу.
Сегодня то ж, и завтра то ж, и вечно то ж,
И обрастешь родимой грязной шерстью,
И, одичалую слюну придерживая челюстью,
На дуре женишься иль горькую запьешь.
Пришла третья весна, началась навигация, вдоль побережья засновал, заискрился «Изумруд» – пассажирский теплоходик, и собрался Михайлов, и попрощался с Анапкой своей, как ему казалось – навсегда, и пошел «Изумруд» по пологой волне, понес в Москву, к маме, сестре, друзьям, к неведомым трудам и песенкам и, возможно, к любви, в конце-то концов, ибо на Камчатке много было радостей, за исключением этой.
В Москве проблем с работой не было. Имея сто друзей, имел среди них Михайлов и Ряшенцева Юрия, у которого соседка по лестничной площадке была Нинка – для других Нина Георгиевна, директриса школы, расположенной в пяти минутах от Кремля и просто впритык к Моссовету.
– Нинк, – сказал Юрка, – хочешь хорошего словесника?
– А есть?
– Вот такой! Стихи сочиняет.
– Охо-хо, – вздохнула Нинка. – У меня как раз один такой уходит. Стихи сочиняет, а успеваемости – ноль.
– На этот счет не беспокойся. Три года стажа на Камчатке, вечерняя школа, ты что. Лучшие показатели по Корякскому округу.
Что было чистой правдой. Показатели эти хотя никто и не проверял, но что у Михайлова тяжелые двоечники вырастали в приличных хорошистов, без запинки писавших «аккомпанемент» и «интеллигенция», – медицинский факт.
(А уходившим поэтом был действительно замечательный поэт Саша Аронов, тогда уже известный на всю Москву, а впоследствии получивший именную рубрику в знаменитом «Московском комсомольце».)
Таким образом, по мановению рока, Михайлов мой перенесся через одиннадцать тысяч километров из промозглой тундры времен мезозоя прямо под священные стены Кремля, в пятиэтажную роскошную показательную школу, которую хотелось именовать гимназией. Классных комнат здесь было множество, и в каждой из них могло уместиться камчатских три. В высокие окна доносились пестрые звуки мегаполиса, а не бесперебойные накаты океана. Рядом располагался Моссовет, а не поссовет, в 6-м классе училась внучка Кагановича, в 10-м – сын народного артиста Любезнова, шефом школы был Центральный Телеграф, – однако на второй неделе Михайлов с удивлением заметил, что существенной разницы между папуасами Камчатки и пижонами улицы Горького нет – ни по части глубокомыслия, ни по линии красноречия. Девицы, конечно, одевались пошикарнее, это да.