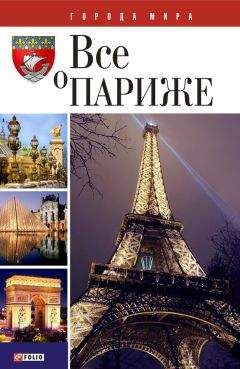Джонатан Франзен - Безгрешность
– Ты собиралась вернуться к девяти, – выдавил он из себя.
– Засиделась, мы много о чем разговаривали, – сказала Аннагрет. – Я спросила ее про пятидесятые, как тогда было в стране. Услышала много интересного. Но потом – очень странно. Кое-что важное. Можно сейчас с тобой поговорить?
Он чувствовал на себе ее взгляд и заставил губы изогнуться кверху, изображая улыбку.
– Ну конечно.
– Ты ел?
– Я не голодный.
– Я попозже сварю лапшу. – Она села рядом с ним на диван. – Твоя мама рассказывала про карьеру твоего отца, какой он был блестящий человек, как он много работал. А потом вдруг сделала паузу и сказала: “У меня был любовник”.
Ярость, которую он ощущал внутри, стала титанической. Как не взорваться? Каким это было бы облегчением – взорваться! Как это, должно быть, чудесно было – размозжить череп лопатой. Вот бы вспомнить – пережить сызнова – облегчение, которое он тогда испытал! Вспомнить не получалось. Но мысль немного его успокоила; дала что-то, за что можно ухватиться.
– Интересно, – пробормотал он.
– Да. Я ушам своим не поверила. Ты говорил, она всегда это отрицала. Я боялась попросить ее что-то рассказать, а сама она не стала. “У меня был любовник” – и все. Переменила тему. Но как-то по-особенному на меня смотрела – не знаю, как будто хотела убедиться, что я обратила внимание на эти слова.
– Гм.
– Но послушай, Андреас. Я знаю, мы никому не можем открыть наш секрет. Я это знаю. Но я так часто с ней вижусь, ей уже за семьдесят, она твоя мать. У меня возникло побуждение ей признаться, и было чувство, что побуждение верное. Я уверена, что она никому бы не сказала. Может быть, сказать ей – как ты думаешь?
Он и мысли подобной не допускал. Сказать Кате – как Аннагрет могла вообразить такое? Его внутреннему взору открылись невообразимые доселе панорамы женской близости. Покладистая Аннагрет – мостик, по которому Катя хочет добраться до него. Доверчивая, серьезная Аннагрет; Аннагрет, готовая предать его. Возвращается домой в десять тридцать, хотя обещала в девять: так долго пробыла у Кати. Говорили, говорили, говорили. Бабы, бабы, бабы. Он был вне себя.
– Ты в своем уме? – спросил он.
– В своем, – ответила она, мигом готовая обороняться. – И она тоже. Я думаю, она теперь в лучшем состоянии. Я знаю, с ней было трудно, когда ты был мальчиком, но те времена давно прошли.
Знает? Трудно? Ничего она не знает. Никто не знает и не может знать, каково это – быть сыном Кати. Каково это, когда день за днем мать трахается с тобой на психическом уровне, а ты не только слишком мал и слаб, чтобы с этим бороться, но даже сердиться не можешь, потому что, соблазненный ею, сам этого хочешь. Аннагрет хотела этого от отчима неделю или две, месяц самое большее. Андреас хотел этого все детство. И тут еще одна ловушка, потому что, в отличие от Аннагрет, он не был физически поруган, не мог так легко, как она, женщина, претендовать на статус жертвы. Ему надо было жить, допуская возможность, что в Кате нет и никогда не было ничего чудовищного. Ее версия действительности была безупречна, особенно в теперешнем возрасте: грехи молодости либо позабыты, либо сведены на нет каким-нибудь изящным словом, отдающим французским языком, – например, “любовник”. Она всегда настаивала, что проблема в нем, что она была ему хорошей, любящей матерью, а думать иначе – болезненное заблуждение с его стороны. И ведь не кто иной, как он, сидел тут часами, охваченный ревнивой злостью, пока дамы предавались уютной беседе.
– От признания может стать легче, – сказала она. – Иногда мне кажется, ты забыл, что признался отцу. Я не собираюсь признаваться кому попало.
ГОТОВ УБИТЬ ЕЕ ГОЛЫМИ РУКАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС.
– Начнешь признаваться… – произнес он сухим, как мел, голосом.
– И что?
– И где кончишь?
– Я предлагаю сказать одному человеку. Твоей матери. Не хочешь? Твой отец проявил сочувствие, и тебе лучше стало. Твоя мать, я уверена, еще больше сочувствия проявит, она ведь сама совершала ошибки, она знает, каково это.
Вдруг температура его ума изменилась скачком, как бывает. В более прохладном состоянии он представил себе, что мать знает об их поступке. Перед Катей у него поистине было меньше причин стыдиться, чем перед кем бы то ни было на свете, Катя была для него воплощением испорченности – и все же он почувствовал, что ему было бы стыдно. Стыдно, что он убийца. Стыдно за все в себе до последней частички, за все вплоть до этой минуты. Задушить, чтобы молчала, свою милую, сладкую дзюдоистку? Да что с ним такое?
Не глядя ей в глаза, он повернулся к ней и зарылся лицом в ее грудь. Перекинул ноги ей на колени, обнял за шею. Похоже было на это дурацкое фото Джона Леннона, обнявшего Йоко, но какая разница. Ему нужны были эти объятия. Она не просто хорошая, а больше, потому что не всегда была хорошая. Знала, каково быть плохой, и выбрала – быть хорошей.
– Прости меня, – прошептала она, гладя его по голове, баюкая. – Я не хотела тебя огорчать.
– Тс-с.
– Тебе нехорошо?
– Тс-с, тише.
– Что с тобой?
– Нельзя ей говорить.
– Можно, я считаю. Нужно.
– Пожалуйста, не надо. Нельзя.
Он заплакал. И в нем снова, почуяв в его слезах, в возврате к детскому состоянию, возможность для себя, зашевелился Убийца. Убийце нравился возврат. Ему нравилось, когда Андреасу четыре, а Аннагрет пятнадцать. Вслепую, с зажмуренными глазами, он стал искать губами ее губ. В первые мгновения ее губы были раздвинуты и доступны, но потом, словно она была потенциальной добычей, не видящей, но чующей Убийцу, она отвернула лицо.
– Надо договорить, – сказала она.
Говорить, говорить, говорить. Слова, слова, слова. Он ненавидел ее. Нуждался в ней, ненавидел ее, нуждался, ненавидел. Не открывая глаз, он опять попытался поцеловать ее.
– Я серьезно, – сказала она, силясь встать. – Убери, пожалуйста, ноги.
Он убрал ноги с ее колен и открыл глаза.
– Сходи к священнику, – предложил он.
– Что?
– Если уж ты хочешь исповедаться. Найди католическую церковь, зайди в будку, скажи, что тебе нужно сказать. И легче станет.
– Я не католичка.
– Я не могу тебе запретить с ней видеться, но мне это не нравится.
– Она боготворит тебя! Ты для нее чуть ли не Иисус.
– Она боготворит то, что видит в зеркале. Мы для нее просто полезные объекты. Чем больше ты ей расскажешь, тем легче ей будет нас использовать.
– Прости, но я думаю, ты совершенно неправ.
– Отлично. Пусть я неправ. Но если ты ей расскажешь, я не смогу с тобой дальше жить.
Кровь бросилась ей в лицо.
– Тогда, может быть, нам не надо жить вместе?
– Может, и не надо. Может, тебе с ней лучше жить.