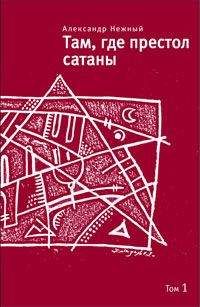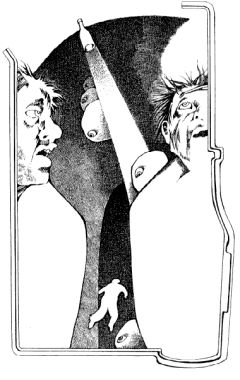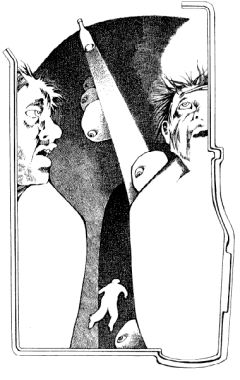Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
Они шли полем, по узкой грунтовой дороге, постепенно забиравшей вправо и поднимавшейся вверх, к домам града Сотникова.
– В неверном представлении о жизни, – выдохнул он. Сгорю, как солома от спички. Всякий, кто смотрит… А я смотрю. И рука моя на ее плече, и мое естество сходит с ума от ее близости. – У нас к ней требования прямо-таки непомерные. И то хочу, и это… Марфа, – вдруг припомнил он, – ты заботишься и суетишься о многом, а нужно лишь одно…
– Марфа? – удивилась она. – Какая Марфа?
– Да, – с виноватым чувством повторил Сергей Павлович, – нужно лишь одно. Это сестра Марии и Лазаря, которого Христос воскресил.
Уже видны стали окна домов города, укрытые занавесками и сквозь них просвечивающие то розовым, то синим, то фиолетовым – приятными цветами домашнего уюта. Чайник на столе. Другой, заварной, томится под подолом тряпичной матрешки со стертым от старости носом и вылинявшими глазками. Трезвый отец читает детям Евангелие в переложении для младшего и среднего школьного возраста преподобного Уильяма Скотта, каноника церкви св. Лаврентия в Бирмингеме (перевод с английского пастора Александра Семченко из церкви «Божья Роса», что временно обосновалась в Подольске, улица Литейная, 27), мать с тонкими, в ниточку, губами, проверив дневник сына, мочит розги в соленой воде. Фиолетовая занавеска скрывает от посторонних взоров небритого мужчину средних лет, который, будучи тяжело и давно пьян, силится прочесть статью Анжелины Четвертинкиной в газете «Сельская новь» и, блуждая мутными глазами, вдруг натыкается на фамилию автора и соображает, что именно четвертинки ему сейчас не хватает для полного счастья. «Мамаша!» – орет он и бьет пудовым кулаком по столу. Заплаканная старушка в белом платочке появляется в дверях. «Ч-ч-ч-е-к-к-ку-у-ушку… т-т-а-а-щи…» За синими занавесками, посчитав наличность, тяжко задумываются супруги, работящие скромные люди, после чего муж, уже седой, с мягкой улыбкой накрывает жесткой ладонью ладонь жены, и они долго сидят так в полном и совершенно не тягостном молчании.
– Однажды задуматься, что нам худо прежде всего от самих себя. Есть, конечно, случаи, – он вспомнил безрукого от рождения подростка, – я их не могу объяснить. То есть, может быть, могу, но не сейчас, – упрямо высказался Сергей Павлович. – Пошлый ум – Анатолий Борисович, к примеру, – вам все объяснит, но попутно все и убьет. Понимаете?
– Кажется… – неуверенно промолвила Оля. – Нет, – почти сразу же откровенно призналась она, – ничего не понимаю.
– И не надо вам ничего понимать, – великодушно разрешил он. – То есть, я хочу сказать, вы и так все понимаете. Не умом, а сердцем, это куда важнее.
– Я?! – удивилась она. – Понимаю? Ничегошеньки я не понимаю. Я, может, и жила бы не так… Нет, нет, – горячо сказала она, – вы не думайте, я не жалуюсь, мы с Илюшечкой прекрасно… Он у меня славный, а если математика хромает, ну и что? Игнатий Тихонович нам помочь обещал, я ему верю. Зато по истории… Его сейчас нет, – безо всякого перехода, как бы между прочим сообщила Оля, – он у бабушки в деревне. А мы с вами уже почти пришли. Вон мой дом, видите? Трехэтажный. Я в первом подъезде на втором этаже. Окошко у меня темное.
Сергей Павлович послушно поглядел на трехэтажный дом, отыскал темное окно на втором этаже, потом посмотрел на Олю и улыбнулся в ответ на ее смущенный, вопрошающий и ожидающий взгляд.
Короткое позвякивание ключей в ее вздрагивающей руке. Никак не могу. Может быть, вы? Или она скажет «ты», что, собственно говоря, было бы весьма уместным предисловием к.
Шаг к сближению. Соприкосновение рук при передаче ключей в полутемном подъезде подобно ожогу. Сердечным «ты» она заменила. Открой нам дверь. Дверь распахивается, они, обнявшись, переступают порог. Кто-то из них толчком ноги захлопывает дверь. Они теперь одни во всем мире. Мрак им сопутствует – как благоволит он всякому греху. Что ты стоишь? Раздевайся. И ты. Я уже. Он чувствует на своих губах ее губы, и с обезумевшей головой покрывает быстрыми жадными поцелуями ее тело: плечи, грудь, живот, вожделенное лоно, ноги… Ее пальцы теребят волосы на его голове. Идем. Слабый голос сверху. Идем же. Он спешит вслед за ней, на ходу сбрасывая туфли, срывая рубашку, стаскивая брюки. Разве он мальчик, чтобы не знать, что за этим последует? Разве он хочет? Да. Я хочу. Разве я не знаю, что это грех? Да. Я знаю. Разве я не могу остановиться? Теперь уже нет. Мрачная волна несет с неодолимой силой. Никто никогда его не простит. Даже имени ее называть не буду. Разве он приехал в град Сотников, чтобы соблазниться Олей и с вожделением, страстью, нежностью вдыхать запахи ее плоти, слышать ее любовный лепет и, будто в беспамятстве, шептать в ответ слова, которые похищены им у другой? Разве сладострастие побудило его отправиться на землю предков, землю обетованную? И разве в миг его проклятого упоения, безумной ласки и ее прерывистого долгого счастливого вздоха не опустят долу глаза белый старичок и дед Петр Иванович? Простите меня. Но я бесконечно желаю ее, при этом обращая ваше внимание на близость слов желать и жалеть, из чего следует, что я желаю, жалея, сострадая ее печальному одиночеству, женской тоске и обреченной увяданию прелести. Даже в верном сердце отчего бы не найти крохотное местечко для жалости, которая так похожа на любовь? С первой нечаянной встречи на дощатом тротуаре улицы Калинина она ему приглянулась. Но разве ее он искал с тех пор? Разве с ней домогался встречи? Разве ради нее бродил по городу, вступал в пределы Юмашевой рощи и в монастыре лихорадочно шарил по стенам давно опустевшей кельи? Нет, совсем иная руководила им цель. И раз уж они снова встретились, то не следует ли сослаться на невидимую и неведомую силу, управляющую судьбами? Рок, если желаете. Повсюду страсти роковые. Но в самом деле, он даже не думал о свидании с ней, а увидев ее трогательно-вопрошающий взгляд, обняв и почувствовав ее покорную и радостную готовность, словно бы вдруг и сразу оказался там, где нет ни рассудка, ни долга, ни прошлой жизни, а есть лишь одно слепящее, перехватывающее горло, мучительное желание.
– Погодите, – придержал Олю Сергей Павлович. – Шаги какие-то. Слышите?
Они стояли возле подъезда, и теперь младший Боголюбов должен был решить: примет ли он молчаливое, но несомненное и настойчивое приглашение или, сославшись на ожидающий его завтра трудный день, простится со своей спутницей и отправится восвояси.
– Идет кто-то, – согласилась Оля. – И пусть. У нас тут шатаются всякие. – Она потянула его за руку. – Я вас хоть чаем напою.
Как слепой за поводырем, он шагнул вслед за ней в полутьму подъезда, медленно, ступенька за ступенькой, поднялся на второй этаж, и там, у ее порога, ощутил на своих плечах ее руки и ее голову – на своей груди. Всем телом она прильнула к нему и шептала с отчаянной горькой нежностью, что пусть он как хочет про нее думает, пусть, но это все не так, все по-другому, ей вообще никто не был нужен, но случилось, что беда приключилась. Ну да. Правда. И как дура стала, один туман в голове. Она засмеялась, заплакала и робко подняла на него блестящие от слез глаза.
– Идем же. Что мы на пороге топчемся.
– Ну ты что… ты зачем… – умоляюще говорил он, все теснее прижимая ее к себе. – …ты меня не знаешь…
– А я и не хочу! Пусть там у тебя в Москве жена и семеро по лавкам… так это ж там! в Москве! а мы с тобой здесь! Я все про тебя уже подумала… и про себя…
– Оля… – хрипло вымолвил он, из последних сил размыкая объятия и отступая от нее на шаг. – …я к тебе завтра… Вечером. У меня дело важнейшее, ради него я сюда… Я приду!
С этими словами он резко повернулся, сбежал вниз и выскочил на улицу. И там, пройдя несколько шагов, он вдруг остановился, обернулся и посмотрел на второй этаж. Окно светилось. Еще выше была черная бездна, мерцавшая, сиявшая и медленно кружившаяся над ним.
Сергей Павлович взмахнул рукой, прощаясь с домом, окном и Олей и зная, что никогда не вернется сюда. Затем он полез в карман, достал папиросу, закурил и двинулся в сторону гостиницы. Из чахлого скверика выступили ему навстречу два крупных мужика и встали у него на пути. Остановился и он. Оба в кепках, только у одного сдвинута козырьком назад. Два бугая. Гена Морозов, тренер, учил: главное – вложиться и хорошо попасть. Сейчас. Он выплюнул папиросу. Между носом и верхней губой лучше всего. Попасть – и ходу. Не успел. Оба они согласно и быстро придвинулись к нему, и Сергей Павлович в мгновение ока получил два сокрушительных удара – в лицо и под ребра. Он согнулся и прохрипел:
– Вы… ребята… обознались… должно быть…
– Козел московский! – услышал в ответ доктор Боголюбов. – Явился наших баб…
Кто-то из них умело обрушил сцепленные руки на его затылок, и он рухнул на землю, успев подумать, что ноги надо подтянуть к животу. Лежи эмбрионом – целее будешь. Почти сразу же он провалился во мрак, очнулся от сильного удара по спине, успел услышать настойчивое матерное пожелание, чтобы завтра же его духа не было в Сотникове, и после прощального пинка в голову потерял сознание.