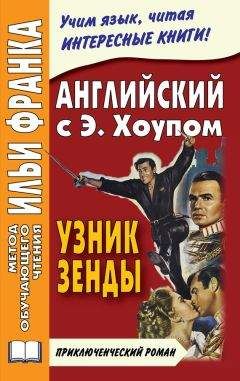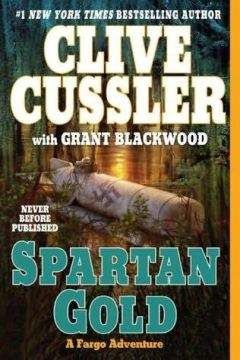Ласло Немет - Избранное
Подав чай господам, Тери подняла свой подарок к свету кухонной лампочки. «Приличная ткань, — сказала она, — в „Парижском дворе“ четыре пенге метр… А вы что получили?» обернулась она к Лайошу. Лайош стоял в дверях бельевой, прислонив к косяку откинутую назад голову. «Я?» — переспросил он и сам заглянул еще раз в зажатый в кулаке газетный лоскут. В газете было три мужских платка с траурной каймой. Барыня в суете вспомнила о Лайоше лишь в последний момент. Как бы там ни было, а в ее доме никто не должен стоять под рождественской елкой без подарка. Она распахнула шкаф с бельем и быстро оглядела вещи мужа: вдруг найдется что-то, что так и так выбрасывать. От порывистых ее движений с полки упала стопка носовых платков. В ней и были три платка, купленных еще по случаю смерти тестя. Как раз кстати — и она бросила платки к давно купленным отрезам для Тери и гувернантки.
Вскоре после черного рождества выпал снег. Это не был тот перемешанный с влагой снег, который разлезающимися хлопьями уже садился раз или два на ограды и только увеличивал слякоть на дорогах мягко начинающейся зимы. Когда Лайош утром после праздника вышел с мусором к калитке, снежные хлопья налипли уже и на толстый хомут приближающейся в облаке пара лошади мусорщика. Белой плесенью снег оседал на печном шлаке и картофельной шелухе. «Видать, теперь-то уж зима установится», — сказал мусорщик, оглядев низкие лилово-серые тучи, и подул на ладони с зажатыми в них вожжами. Лайош, ничего не ответив, молча ушел в бельевую. Но и там на низких окнах уже лежали снаружи валики снега, и над красными поперечинами решетки небо прочертило белой краской еще одну линию. «Ветер в эту сторону дует, и в тени остается снег, не тает», — подумал Лайош и, чтобы напугать зиму, потащил на двор свои инструменты. Когда он гремел с ними по кухне, Тери как раз вставала; дверь ее уже была открыта, слышно было, как она наводит порядок. Лайош остановился возле дома под стрехой и поставил к стене грабли, потом лопату. Пока он ходил в дом, снег пошел густой плотной массой; на телеграфном столбе чернела лишь подветренная полоса, и рисунок ограды тоже вычерчен был из снега. Щебень на дорожке кое-где темнел еще островками, но там, где снег только что лежал пятнами, белизна на глазах сливалась в сплошной покров, и уже пятнами выглядели черные прогалы. Лайош обогнул дом и взглянул на свое рабочее место. Летящий с горы ветер нес в его борозды даже соседский снег; еще час-два — и никто уже не отличит, где земля перекопана, а где осталась целина. Он вернулся ко входу, под стреху, и протянул в снегопад широкую синевато-красную свою ладонь. Снежинки ложились густо, чуть-чуть обмякали и таяли. Земля же не была ничьей рукой, и каждая снежинка оставалась спокойно на ней лежать.
Лайош вернулся на кухню и попросил у Тери метлу, размести дорожку. Но ни широкой лопаты, ни метлы не нашлось, Лайош получил только стертый до основания сорговый веник. Им он и принялся расчищать дорожку — правда, без особого успеха: когда он дошел до калитки, позади уже снова лежал слой в добрый дюйм. Лайош несколько раз прошел туда и обратно, потом, возвратившись под стреху, сел на камень. Снежные хлопья летели, метались, кружились, как безумные, и все множились, множились на глазах. Ветер подхватывал их, собирал в стаи, и они уже словно бы и не сыпались сверху из туч, а становились скоплением стремительных белых насекомых, прилетевших откуда-то из-за горы. Воздух от них стал лиловым, ветки черешен напротив тонули в садившейся на них, облеплявшей их пухлым слоем стае белых мух. В доме началась жизнь, но Лайош, дрожа в своей куртке, все сидел спиной к дому и смотрел на лиловый снегопад. Тиби тоже уже встал, влез на кресло у окна столовой и стучал ему в стекло: «Лайо!» Лайош, оглянувшись, грустно улыбнулся ему и даже попробовал скорчить смешную рожу, но потом опять повернулся к снегопаду. Мальчик все стучал и повторял: «Лайо! Лайо!» Но когда Лайош опять оглянулся, того уже сняли со стула.
Он замечал краем глаза, что в доме то там, то здесь отдергиваются занавески и домашние глядят на него. Все знали: снег — это его несчастье, и теперь смотрели, как он будет себя вести. «Поглядите на Лайоша, барыня, ишь какой кислый сидит из-за снега», — зовет Тери хозяйку к окну спальни. Барыня, выбравшись в пеньюаре из алькова в стиле мадам Помпадур, подходит к окну и через минуту, вздрагивая от холода, взбегает по ступеням обратно. Может, даже жалеет его чуть-чуть, когда смотрит на него из окна. «Бедный парень», — думает барыня, прячась под одеяло. Немка, та, должно быть, тихо радуется, застилая постель Жужики. Вот теперь он настоящий «дерманн». Лайош каким-то образом чувствовал все это замерзшей своей спиной, и потому ему было лучше сидеть здесь, глядя на снег, чем идти в дом, избегая людей, которые избегали его. Сидя неподвижно на камне, он настолько промерз, что красное лицо и посиневшие руки затосковали по теплу кухонной плиты. Он еще раз размел дорожку и пошел в дом.
Он остался в кухне — не только из-за тепла, но и из-за снега. Теперь, когда выпал снег, положение его изменилось, и хозяевам, наверно, будет ему что сказать, прятаться было бы неудобно. Сбоку, чтоб не досаждать Тери, он протянул руки к огню. «Зима пришла», — сказал он. «И ветер какой!» — ответила девушка. Прибежал мальчишка от бакалейщика, пошлепал в прихожей о каменный пол заснеженной своей шапкой. Барыня вышла в кухню, чтоб записать заказ в книгу. «Ах, да, Лайош, — сказала она стоящему у плиты парню, — я еще перед праздниками хотела вам отдать ваши деньги, да позабыла. За мной еще десять пенге, верно?» Тери принесла из комнаты ее сумку, и десять пенге попали в кулак Лайошу. Он чуть-чуть подождал, может, что-нибудь скажет хозяйка: например, сразу ему уходить или на несколько дней можно остаться. Но барыня ничего не сказала. Пока что, видно, ему доверяли решать, что он станет делать. Он сунул деньги в карман куртки и опять вышел с веником во двор. Еще до праздника собиралась отдать ему деньги — вертел он так и сяк слова барыни; стало быть, не из-за снега отдала сейчас. Если хочешь, можешь понять это так, что она на праздник хотела ему дать эти деньги. Все равно пропало, что он сестре выслал, пусть хоть на праздник не остается бедолага без средств. Только забыла отдать, вместо денег платки отдала, а теперь, как увидела Лайоша, так и вспомнила сразу. Можно все это было и так объяснить, только Лайош уже ей не верил. Знает он, что ей снег про деньги напомнил. Правда, упрекать ее не в чем: еще великодушно с ее стороны, что заплатила все деньги, хотя сад копать он так и не кончил. Весной надо будет поденщиков нанимать или барину поработать придется несколько дней. Но хоть бы сказала, как ему сейчас поступать. Убираться сейчас же? Или подождать, пока непогода утихнет? Ведь и снег этот, может, растает еще. Помнит он не один январь, когда можно было спокойно копать. Нехорошо это все же — сунуть десять пенге, и все. Нельзя такие дела возлагать на совесть бедного человека, чтобы он сам взял и ушел в такой снег. Вытолкнуть надо его, как собаку толкают в воду. Когда он снова зашел греться, из столовой донеслись непонятные звуки. Скрежетнула жесть по железу, потом раздался более густой звук. Кр-р-р — двигалась кочерга по коксу. Это был голос его железного питомца. Он заглянул в столовую — угольного ведра и совка не было за котлом. Ага, он про печь-то и позабыл; но раньше его всегда звали, если после проветривания надо было задать зверю корм. А теперь Тери сама занимается печью. Даже в подвал спускалась сама, а ведь подвала она прежде боялась: вместо лесенки там был ящик, поставленный на торец. Он заглянул в дыру и увидел, что там кто-то был: новая стопка лучины рассыпалась — видно, Тери брала из нее и всю развалила. Ему дали понять, что теперь в нем совсем не нуждаются. Как раз теперь, когда наступила зима. Но тогда почему не сказать прямо? Может, думают, он натравит на них воровскую шайку, про которую кричала Водалиха? Или жалеют из-за сестры — если это можно назвать жалостью? С той поры как они вернулись с Сенной, все обращались с ним по-другому. Тери не кидалась на него, не отталкивала с дороги; если что говорила, то без зла. Вот только разве что ничего почти и не говорила. Избегала его, будто даже в тихом дыхании Лайоша было что-то ужасное, от чего угасают слова, как свеча угасает в подвале, где бродит вино. И хозяйка разговаривала с ним, как с больным — или как с буйно помешанным, у которого в голове бродят страшные мысли. Он не мог сказать, жалеют его здесь или боятся. Да, пожалуй, и нет здесь какой-то особой разницы, если речь идет о таком чужом всем бродяге. Горя его они так же боятся, как и «сообщников». И то и другое — лишь забота для них и докучливая помеха. Хорошо, если б он был уже где-нибудь далеко. Но выгнать бесцеремонно страшно: вон как он замахнулся тогда на Водалиху. Конечно, и на барина, верно, оглядываются. Нервы у барина слабые, могут не выдержать, когда у него на глазах бедняка выгоняют в пургу. Узнает — опять заорет, как недавно из-за монастырской школы. Но все-таки намекать намекают: разве не намек эти десять пенге? Или угольное ведро, которое забрали из его рук? Дверь бельевой приоткрылась, и в щель со звоном скользнули ведро и совок. Тери думала, видно, что он еще не вернулся, и увидев, как он стоит, глядя в яму, отпрянула быстро назад. Эта-то чего боится? Обижал он ее когда? Видно, страхом, уклончивым взглядом, трусливой беспощадностью хотят выгнать его как можно скорей. Его вдруг охватила невероятная злость. Так нет же, не будет по-вашему! Если бы прямо сказали: вот твои деньги, снега дождался, ступай с богом, — он бы ушел. Но теперь и он им досадит. Потолкует с барином, разжалобит его и до тех пор будет за него цепляться, пока эта вилла не станет сплошным воплем, слезами и судорогами.