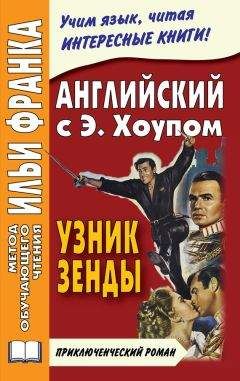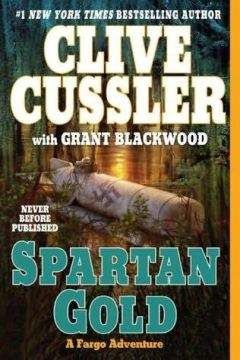Ласло Немет - Избранное
Последним ощущением, прерванным мыслью о загадке возвратившегося письма, было радостное удивление, что относительно мягко произнесенное «Лайош» и устремленный на него лишенный привычной неприязни взгляд исходили от Тери. Теперь, когда заостренные буквы почтальона проникли наконец в его сердце, радость эта была еще достаточно сильной, чтобы уступить место новому, подымающемуся из груди чувству. Стало быть, они уже знали? Они уже знали? Они уже прочли это слово, потому барыня и бросила взбивать крем — чтобы не видеть, как подействует на него страшная весть. Когда он поднял от письма лицо с неуверенной, пляшущей улыбкой, что и у Маришки предшествовала рыданию, взгляд его невольно искал то сочувствие, которое померещилось ему в голосе Тери, в руке ее, тихо, чуть ли не нежно протянувшей ему письмо. Скажи еще что-нибудь, пожалей, ведь умерла Маришка, ты же видишь, я остался один в мире, я пропаду без поддержки — молило рвущееся сквозь дергающиеся губы рыдание. В готовящемся рыдании этом был и свой неосознанный расчет; робкая любовь Лайоша, не ведая ни о чем, все еще вела здесь отдельную игру, надеясь хотя бы в сочувствии добиться того, чего так и не получила иными путями. Но Тери склонилась уже над столом с рождественской стряпней, и, хотя подвижные ее руки были мягче сейчас, чем обычно, любовь, даже ослепленная горем, должна была ощутить в ней упругую, прочную преграду. И речи не могло быть о том, чтобы сесть у стола на табуретку и до тех пор сотрясаться в плаче, пока тонкие пальцы Тери не опустятся на его голову. «Отчего она умерла, как вы думаете?» — спросила Тери тихо, не отрывая глаз от теста. Странное ее любопытство, которое и в день героического подъема стекла направлено было не на храбрость благополучно свершившего свой подвиг Лайоша, а на Лайоша упавшего, истекающего кровью, и тут обратилось к смерти не как к удару судьбы, а как к анатомическому случаю. Никакой иной вопрос не мог бы быстрее погасить в Лайоше жажду сочувствия, загнать ее обратно в грудь. Причина смерти Маришки была чисто головной заботой. Длинный гость барина назвал болезнь, и, пока Лайош искал это слово, умственные усилия на миг отодвинули боль, задержав на лице перекошенные черты, сложившиеся для рыдания. «Тромбоз. Баринов друг так сказал», — добыл он наконец из памяти нужное слово. Но за короткую эту минуту приостановленные эмоции осознали, что сочувствия им не дождаться, и сердце затосковало уже не по бледным рукам Тери, а по матрацу. «Ведь подумать: мать у вас тоже от родов умерла. Да?» — сказала уже где-то бесконечно далеко от Лайоша Тери. Он промолчал. Пока Тери искала для него хоть какие-то слова, невежливо было бы уходить. Но она больше ничего не сказала, лишь бледные руки ее двигались над печеньем. Лайош тихо ушел в бельевую и, щадя мягкое настроение Тери, осторожно прикрыл за собой дверь.
Рождественский вечер у Хорватов не был столь многолюдным, как день Микулаша. Лишь один инженер пробился сквозь ветер, принеся свою влажную от тумана бороду. Бабушка со Звездной горы в прошлый раз простудилась и будет встречать рождество в компании с кружкой горячего чая. Барин прибыл к вечеру и теперь украшал елку в кабинете. Дома он появился необычно бледный, барыня даже жаловалась в кухне, что поездка эта его совсем утомила. Детей уже после обеда охватила подарочная лихорадка. Жужика носилась вниз и вверх по лестнице, то заставляя немку в детской рассказывать про Иисуса, грядущего к ним среди облаков и кондитерских, то пробираясь на кухню клянчить авансом кусочки рождественских сладостей. Уже были готовы пирожные с кремом, лондонский пирог, шоколадный рулет, нуга, а простые пирожки с орехами даже и в счет не шли. Горы лакомств, для доступа к которым даже не требовалась помощь небес, с каждой минутой увеличивали нетерпеливый интерес девочки к закрытым дверям кабинета, где отец завершал успешное вселение святого младенца. Тиби насчет Иисуса ничего еще не понимал, но возбуждение сестры и поднятые на недоступную для него высоту блюда со властями заразили и его — он стучал ногами в двери, цеплялся за ручки, бегал, падал, ревел, лез, за отсутствием отвечающих его настроению высоких холмов, на все подряд стулья, столы и колени.
Ангельский благовест — звонок трехколесного велосипеда, тоже приготовленного в подарок, — избавил наконец скрипящую лестницу и перевернутую вверх дном кухню от буйствующих детей. Жужика, побледнев от волнения, первой вступила в расколдованную дверь. Возле письменного стола вздымалась до потолка нарядная елка; вместо свечей — тактичный упрек отсталым небесам — горели маленькие электрические лампочки, на ветвях лежал снег из ваты, снег, вселявший в Лайоша ужас; в слепящих искрах бенгальского огня сияли и таяли шоколадки в виде лир, сигар, теннисных ракеток, петушков, бочонков — как уголок рая, где даже святые и те шоколадные. Взгляд Жужики проникал сквозь бенгальский огонь все дальше, захватывал все более глубокие сферы сверкающих наслаждений, открывая за прошлогодними украшениями карамели в бумажках и фрукты из марципана. Метнувшись вниз, взгляд ее натыкался на крохотные терки кукольной кухни, на вещающий ангельским голосом велосипедный звонок и обнаруживал, что вся елка, собственно говоря, не больше чем сверкающая бутафория, подлинные же чудеса таятся в глубине, куда не доходит свет бенгальских огней.
Перед открывшимся вдруг изобилием желанных игрушек Жужику охватило благоговение, и, бледно-голубая от искусственного света, она упала перед елкой на колени, чтобы спеть заученное «Ангел с небес». Барыня вместе с выглядывавшей из столовой Тери и даже гувернантка, едва удерживающая Тиби, искренне были растроганы, глядя на стоящего на коленях ребенка, в дрожащем голоске которого сквозь испуг перед чудом пробивалась потрясенная благодарность за дары, ощупываемые пока (вместо сложенных перед грудью пальцев) широко раскрытыми глазами. Когда задохнувшаяся от волнения девочка поднялась, на колени опустилась мать и, ползая вдоль разложенных под елкой подарков, по очереди привлекала к ним внимание девочки. «А это что такое, ну-ка посмотрим?» — «Колесо с погонялкой», — радостно узнавала Жужика. «А это что, так много?» — «Кукольная кухня». — «Смотри-ка, и сюда что-то положил Иисус». Там была мозаика из шариков. Пока Жужика с блаженной улыбкой бродила среди исполнившихся своих пожеланий, Тибике сосредоточил все внимание на шоколадной трубке, которую гувернантка сумела снять с высокой ветки лишь с помощью инженера. Барин, завершив свою миссию у бенгальских огней, сидел, закрыв лицо ладонью, и с усталой улыбкой смотрел сквозь раздвинутые пальцы на детей. Тери прошла до порога кабинета, Лайош же топтался в дверях столовой, в промежуточной позиции между готовностью с оскорбленным видом уйти на свое место и дерзко вторгнуться на территорию господ. Когда Жужика, оглушенная свалившимися на нее чудесами, окончательно потеряла способность восторгаться, мать пристроила ее раздавать подарки взрослым. «Посмотрим, а кому Иисус принес этот плед? Наверно дяде Эдену. А эту шелковую рубашку? Я думаю, папочке». Прислуге Иисус принес отрезы ткани. После Тери, вернувшейся на порог кабинета, позвали и Лайоша: ему Иисус принес что-то завернутое в газету. К нему Жужика вышла чуть ли не до середины столовой, так что он смог бросить лишь беглый взгляд на сияющую елку. «Благодарствуйте», — шепнул он и смущенно вернулся на свой пост.
Подав чай господам, Тери подняла свой подарок к свету кухонной лампочки. «Приличная ткань, — сказала она, — в „Парижском дворе“ четыре пенге метр… А вы что получили?» обернулась она к Лайошу. Лайош стоял в дверях бельевой, прислонив к косяку откинутую назад голову. «Я?» — переспросил он и сам заглянул еще раз в зажатый в кулаке газетный лоскут. В газете было три мужских платка с траурной каймой. Барыня в суете вспомнила о Лайоше лишь в последний момент. Как бы там ни было, а в ее доме никто не должен стоять под рождественской елкой без подарка. Она распахнула шкаф с бельем и быстро оглядела вещи мужа: вдруг найдется что-то, что так и так выбрасывать. От порывистых ее движений с полки упала стопка носовых платков. В ней и были три платка, купленных еще по случаю смерти тестя. Как раз кстати — и она бросила платки к давно купленным отрезам для Тери и гувернантки.
Вскоре после черного рождества выпал снег. Это не был тот перемешанный с влагой снег, который разлезающимися хлопьями уже садился раз или два на ограды и только увеличивал слякоть на дорогах мягко начинающейся зимы. Когда Лайош утром после праздника вышел с мусором к калитке, снежные хлопья налипли уже и на толстый хомут приближающейся в облаке пара лошади мусорщика. Белой плесенью снег оседал на печном шлаке и картофельной шелухе. «Видать, теперь-то уж зима установится», — сказал мусорщик, оглядев низкие лилово-серые тучи, и подул на ладони с зажатыми в них вожжами. Лайош, ничего не ответив, молча ушел в бельевую. Но и там на низких окнах уже лежали снаружи валики снега, и над красными поперечинами решетки небо прочертило белой краской еще одну линию. «Ветер в эту сторону дует, и в тени остается снег, не тает», — подумал Лайош и, чтобы напугать зиму, потащил на двор свои инструменты. Когда он гремел с ними по кухне, Тери как раз вставала; дверь ее уже была открыта, слышно было, как она наводит порядок. Лайош остановился возле дома под стрехой и поставил к стене грабли, потом лопату. Пока он ходил в дом, снег пошел густой плотной массой; на телеграфном столбе чернела лишь подветренная полоса, и рисунок ограды тоже вычерчен был из снега. Щебень на дорожке кое-где темнел еще островками, но там, где снег только что лежал пятнами, белизна на глазах сливалась в сплошной покров, и уже пятнами выглядели черные прогалы. Лайош обогнул дом и взглянул на свое рабочее место. Летящий с горы ветер нес в его борозды даже соседский снег; еще час-два — и никто уже не отличит, где земля перекопана, а где осталась целина. Он вернулся ко входу, под стреху, и протянул в снегопад широкую синевато-красную свою ладонь. Снежинки ложились густо, чуть-чуть обмякали и таяли. Земля же не была ничьей рукой, и каждая снежинка оставалась спокойно на ней лежать.