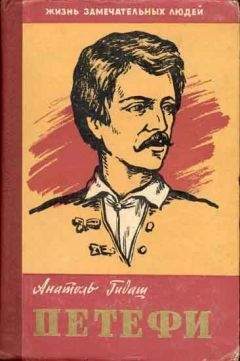Свечи сгорают дотла - Мараи Шандор
И в каждой книге была крупица правды, и каждое воспоминание убеждало: напрасно человек познал истинную природу человеческих отношений, мудрее никакие знания его не сделают. Потому-то у нас и нет права требовать безусловной правды и верности у того, кого мы единожды приняли в друзья, даже если события показывают нам, что этот друг оказался неверен.
— Ты совершенно уверен, — спрашивает гость, — что этот друг оказался неверен?
Оба долго молчат. В полутьме, в беспокойном свете пламени они кажутся маленькими; два сгорбленных старика смотрят друг на друга, почти растворяясь в темноте.
— Я не совсем уверен, — отвечает генерал, — потому ты и здесь. Об этом и разговор.
Он откидывается в кресле, спокойно и методично складывает руки на груди:
— Потому как есть правда факта. Произошло то-то и то-то. Было все так-то и так-то. В конкретный момент времени. Это выяснить несложно. Факты говорят, как они обычно говорят.
К концу жизни все факты выдают скрытое, кричат громче, чем обвиняемый на дыбе. В финале все уже произошло, и неправильно понять тут уже невозможно. Но факты порой — лишь печальные последствия. Грех не в поступке, но в намерении, с которым человек совершает то или иное действие. Все в намерении. Большие старые религиозные правовые системы, которые я изучал, знают и всячески говорят об этом. Да, человек может совершить предательство, пойти на низость, даже самое ужасное — убить и внутри остаться чистым. Действие — еще не правда. Все есть лишь последствие, и если кто-то однажды становится судьей и хочет вынести приговор, то фактами полицейского протокола он ограничиваться не может, надо узнать то, что юристы называют побудительным мотивом. Факт твоего побега легко понять. Причину — нет. Можешь поверить, за последний сорок один год я взвесил и проанализировал все возможные объяснения этого непонятного поступка. И ни одно предположение не дало ответ. Ответ может дать только правда, — говорит генерал.
— Ты говоришь о побеге, — реагирует Конрад. — Сильное слово. В конечном итоге я никому ничего не был должен.
В отставку вышел как полагается. Не оставил за собой никаких грязных долгов, никому не пообещал ничего, чего бы не исполнил. «Побег» — сильное слово, — произносит он серьезно и слегка выпрямляется.
Но по тому, как дрожит его голос, можно понять, что эмоция, придающая ему мрачную окраску, не вполне искренняя.
— Может, и слишком сильное, — кивает генерал, соглашаясь, — но если посмотреть издалека, тебе придется признать, что более мягкое слово трудно подобрать. Ты говоришь, что никому ничего не был должен. Это и правда, и неправда.
Портному своему, ростовщику в городе ты, конечно, ничего должен не был. Да и мне не был должен — ни денег, ни обещаний. И все же в момент, когда в тот июльский день — видишь, я помню даже, какой был день недели, среда, — ты уехал из города, ты знал, что за тобой остался долг. Вечером я побывал у тебя на квартире — мне сказали, что ты уехал. Я узнал об этом, когда уже смеркалось, при своеобразных обстоятельствах. Об этом тоже можем поговорить как-нибудь, если захочешь. Я отправился к тебе на квартиру, где меня принял уже только твой денщик. Я попросил его оставить меня одного в комнате, где ты жил последние годы, когда служил здесь, в городе, по соседству. — Генерал замолкает. Откидывается в кресле, прикрывает ладонью глаза, словно смотрит в прошлое. Потом спокойным голосом рассказчика продолжает — Денщик, естественно, подчинился моему приказу, иначе он и не мог поступить. Я остался один в твоей комнате. Все как следует осмотрел… прости мне это бестактное любопытство. Но я попросту не верил в реальность случившегося, не верил, что человек, с которым я вместе провел значительную часть жизни, а именно двадцать два года, детство, юность и лучшие зрелые годы, может совершить побег. Я пытался найти объяснение, думал, вдруг дело в серьезной болезни, или надеялся, что ты сошел с ума или тебя преследуют — вдруг ты проигрался в карты или подло поступил в отношении полка, осквернил знамя, слово и честь. Вот на что я надеялся. Да, не удивляйся, в моих глазах все казалось тогда меньшим грехом, чем то, что ты сделал. Все казалось мне объяснением и причиной, даже предательство идеалов. Одного лишь я не мог себе объяснить: того, что ты нанес обиду мне. Этого я не понимал. Этому не находилось объяснений. Ты исчез, как вор, как тать в ночи, уехал, хотя всего за несколько часов до этого еще был с нами — с Кристиной и со мной, наверху, в замке, где мы вместе проводили дневные, а порой и ночные часы годы напролет в состоянии такого доверия и братской близости, как бывает лишь промеж близнецов — этих особых созданий, которых природа неразрывно связывает до самой смерти. Близнецы, знаешь, они даже на расстоянии, уже будучи взрослыми, все равно друг о друге все знают. И какой-то особый биологический закон заставляет их даже заболевать в унисон, они страдают от одних и тех же болезней, даже если один живет в Лондоне, а другой — где-то далеко, в чужой стране. Они не пишут друг другу письма, не разговаривают друг с другом, живут в разных условиях, едят разную пишу, их разделяют тысячи и тысячи километров. И все равно в тридцать-сорок лет в один и тот же час у них случается, скажем, желудочное кровотечение или приступ аппендицита с одинаковой перспективой вылечиться или умереть. Между их телами существует органическая общность — такая же, как до рождения, в утробе матери… В качестве объектов любви и ненависти они выбирают одних и тех же людей. Это у них в крови. Встречается такой феномен не часто… но, возможно, не так уж и редко, как люди обычно думают. Я был даже склонен думать, что дружба похожа на роковое единение близнецов. Особое сходство наклонностей, симпатий, вкусов, образования, эмоциональных реакций обрекает двух людей на схожую судьбу. И что бы один ни делал против другого, все равно судьба их едина. И сколько бы один ни бежал от другого, все равно оба знают друг о друге главное. И сколько бы ни подбирал себе один новых друзей или возлюбленных, без тайного неписанного разрешения второго освободиться от этой общности он не сможет. Судьба таких людей воплощается синхронно — и напрасно один уезжает подальше от другого, совсем далеко, скажем, в тропики. Вот о чем я думал, стоя рассеянный в твоей комнате в день твоего побега. Ясно вижу ту минуту, освещение в комнате, даже сейчас чувствую тяжелый запах английского табака, вижу мебель, тахту с большим восточным ковром, изображения лошадей на стене. Помню даже бордовое кожаное кресло — такие бывают в. сигарных комнатах. Тахта была широкая, видно было, что ты ее делал на заказ, в нашей провинции такое не купишь. Это была даже не тахта, а широкая двуспальная кровать — там помещались двое.
Генерал смотрит на дым.
— Окно открывалось в сад. Я правильно помню?.. Тогда я был там первый и последний раз. Ты никогда не хотел, чтобы я туда к тебе приходил. Между делом заметил как-то, что снял дом на краю города, в заброшенном районе — дом и сад. Ты снял его за три года до побега — прости, вижу, тебе это слово неприятно слышать.
— Продолжай, — говорит гость. — От слов ничего не зависит. Продолжай, раз уж начал.
— Ты так считаешь? — нарочито невинным голосом интересуется генерал. — Ничего не зависит? Я бы так однозначно не утверждал. Мне иногда кажется, что от вовремя сказанных или не сказанных, или написанных слов зависит очень много, а то и вообще все… Да, я верю в это, — произносит он решительно. — Ты никогда не звал меня в тот дом, а я не мог прийти без приглашения. Откровенно говоря, я думал, тебе стыдно за эту квартиру, для которой ты покупал мебель, передо мной, человеком состоятельным… Мало ли тебе эта мебель казалась убогой… Ты был такой гордый, — в словах генерала ни тени сомнения. — Деньги — единственное, что разделяло нас в молодости. Ты был гордецом и не мог мне простить мое богатство. Потом уже, позднее мне приходило в голову, что богатство, наверное, невозможно простить. Блага, которыми ты как гость постоянно пользовался, были и вправду чрезмерны… Я родился в богатстве и даже сам порой чувствовал, что простить это невозможно. А ты всегда с брезгливостью следил за тем, чтобы дать почувствовать разницу между нами в денежных делах.