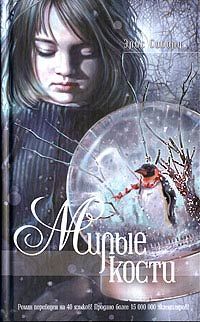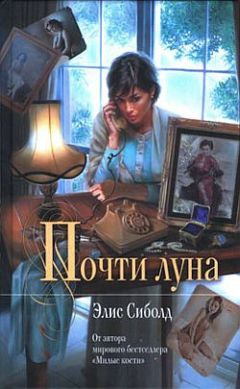Элис Сиболд - Милые кости
На улице пошел снег. Впервые после моей смерти. И папа это отметил.
— Слушаю тебя, родная, — молча произнес он. — Что ты хочешь сказать?
Вся сила моих мыслей устремилась на сухой куст герани, черневший у него перед глазами. Я подумала: если сумею сделать так, чтобы герань распустилась, это и будет ответ. У меня на небесах герань тут же зацвела буйным цветом. У меня на небесах лепестки уже начали осыпаться, я в них утопала по пояс. А на Земле ничего не изменилось.
Но даже сквозь снегопад я заметила: отец по-иному смотрит на зеленый дом. Что-то его насторожило.
Мистер Гарви появился во дворе, одетый в теплую фланелевую рубашку, но папе бросилось в глаза другое: сосед вынес из дому охапку белых льняных простыней.
— Это еще зачем? — спросил отец.
Тут он перестал различать мое лицо.
— Вместо брезента, — объяснил мистер Гарви. Передавая простыни отцу, он коснулся ладонью его пальцев. Папу словно ударило током.
— Вам что-то известно, — сказал отец.
Мистер Гарви молча выдержал его взгляд.
Они продолжили работу, невзирая на подгоняемый ветром снег. С каждым движением у отца подскакивал адреналин. Он хотел убедиться в том, что и так знал. Спросил ли хоть кто-нибудь у этого типа, где он был в тот день, когда я пропала? Неужели никто не видел его в поле? Ведь полицейские опрашивали всех соседей. Методично переходили от дома к дому.
Натянув одну простыню на сплетенный из веток купол, папа с мистером Гарви закрепили ее в углах квадрата, образованного поперечинами. Остальные простыни свободно висели на рейках, спускаясь до самой земли.
Работа подошла к концу; на полукруглых льняных сводах боязливо примостились клочки снега. В складки отцовской рубашки тоже забился снег, даже по верхней кромке ремня пролегла белая полоса. Меня пронзила тоска. Я осознала, что никогда больше не выбегу на снег с Холидеем, никогда не буду катать Линдси на санках, никогда не покажу брату, как лучше всего лепить снежки — утрамбовывая их пяточкой ладони. Меня окружало море ярких лепестков. А на Земле опускалась завеса из мягких, девственно-чистых снежинок.
Зайдя в шатер, мистер Гарви представил, как непорочную невесту везут на верблюде к жениху-имедзурегу. Стоило моему отцу пошевелиться, как он остановил его упреждающим жестом:
— На сегодня хватит. Не пора ли вам домой?
Отец должен был хоть что-то сказать. Но у него на языке вертелось только одно слово: «Сюзи». Оно прозвучало совсем тихо, с каким-то змеиным шипением.
— Шатер получился на славу, — сказал мистер Гарви. — Все соседи видели, как мы с вами трудились.
Отныне будем друзьями.
— Вам что-то известно, — повторил отец.
— Ступайте домой. Ничем не могу вам помочь.
Мистер Гарви не улыбнулся, не сделал движения навстречу. Он скрылся в брачном шатре, опустив за собой полог — белую льняную простыню с вышитой монограммой.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Какая-то частица моего сознания жаждала немедленной расправы, требовала, чтобы папа сделался — наперекор своему характеру — беспощадным мстителем. Так всегда бывает в кино, и еще в книжках, которые идут нарасхват. Простой человек вооружается пистолетом или ножом, чтобы прикончить убийцу своих близких. Сплошной Чарльз Бронсон; публика ревет от восторга.
А на деле было так.
По утрам волей-неволей приходилось вставать. В полудреме он еще оставался прежним, самим собой. Мысли пробуждались медленно, будто по жилам растекался яд. Подняться удавалось не сразу. Он долго лежал в кровати, придавленный тяжестью. Зато потом спасительной соломинкой казалось движение, и он двигался, двигался, двигался, но не мог убежать от себя. На нем была вина, сверху обрушивалась карающая десница: Почему тебя не было рядом с дочерью?
Когда отец направлялся к мистеру Гарви, мама сидела в холле рядом с купленной по случаю фигуркой святого Франциска. Вернувшись, папа вошел в пустой холл. Он окликнул маму, троекратно повторил ее имя, заклиная не отзываться, а потом бесшумно поднялся к себе в кабинет, чтобы сделать очередную запись в блокноте на пружинке: «Пьет? Напоить. Возможно, разговорится». И дальше: «Думаю, Сюзи за мной наблюдает». Тут я запрыгала от восторга у себя на небесах: бросилась обнимать Холли, бросилась обнимать Фрэнни. Отец все понял, думала я.
Линдси громче обычного хлопнула дверью, и папа обрадовался, услышав этот стук. Он страшился погружения в свои записки, боялся доверять слова бумаге. Стук входной двери, эхом прокатившийся сквозь неопределенность дневного времени, вернул его в настоящее, привел в движение, не дал утонуть. Мне это было понятно, хотя — не стану кривить душой — и обидно тоже, оттого что придется довольствоваться незримым присутствием и молча выслушивать, как Линдси за ужином докладывает моим родителям о своих успехах: контрольную написала лучше всех, учитель истории собирается представить ее к награждению почетной грамотой, — впрочем, Линдси была живой, а живые тоже заслуживают внимания.
Она затопала по лестнице. Деревянные сабо стукали о каждую сосновую ступеньку, да так, что сотрясался весь дом.
Не отрицаю, мне было завидно, что ей достанется все папино внимание, но я восхищалась ее выдержкой. Из всей нашей семьи она единственная столкнулась с таким отношением, которое Холли называла «синдром ходячего покойника» — это когда люди смотрят на живых, а видят мертвых.
Когда люди (в том числе и мама с папой) смотрели на Линдси, они видели меня. Не избежала этого наваждения и сама Линдси. Она за версту обходила зеркала. Даже мылась под душем в темноте.
В темноте она выбиралась из-под горячих струй, ощупью находила полотенце. Без света ей ничто не угрожало — влажный пар, поднимавшийся от кафельного пола, обволакивал ее с головы до ног. Неважно, стояла ли в доме тишина, или снизу доносились приглушенные голоса, она знала: здесь ее никто не побеспокоит. В такие минуты она мысленно обращалась ко мне, причем делала это двумя способами. Либо молча твердила одно-единственное слово, «Сюзи», и потом не сдерживала слезы, бегущие по мокрым и без того щекам, потому что была скрыта от посторонних глаз, которые могли увидеть в этих предательски соленых ручьях знак скорби; либо воображала, как я спасаюсь бегством, как ее захватывают вместо меня, а уж она дерется что есть сил и вырывается на свободу. Она гнала от себя мучительный вопрос: Где сейчас Сюзи? Папа слушал, что происходит у Линдси в комнате. Грохот — захлопнулась дверь. Глухой удар — на пол брошены книги. Скрип — застонала кровать. Тук-тук — с ног слетели сабо. Через пару минут он уже стоял у нее под дверью.
— Линдси, — позвал папа.
Ответа не было.