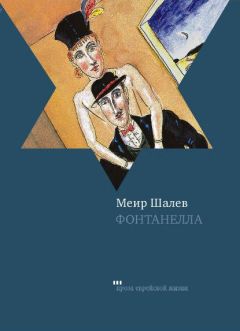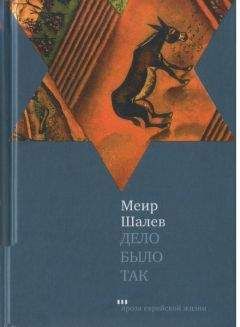Меир Шалев - Эсав
Много лет спустя, возле закрытой двери своей жены Леи, мой брат Яков (бледное лицо в морщинах, правая рука с культей мизинца спрятана в кармане) сказал мне, что каждый мужчина хранит в сердце один-единственный образ своей жены — «портрет перед закрытыми глазами», назвал он его, — образ, выжженный в памяти, как товарное клеймо. «Всю последующую жизнь он накладывает ее на этот портрет, накладывает и сравнивает, накладывает и проклинает, накладывает и плачет».
Но отец, который, несмотря на все свои старания, так и не сумел сравняться с Яковом в страданиях и несчастьях, и сегодня говорит нам, как говорил всегда: «Вот так я попался», — доводя нас до бешенства приторностью своего жестокого красноречия.
— Ты там у себя в Америке уже забыл, каково жить с ним под одной крышей, — говорит Яков. — Так сейчас ты вспомнишь.
ГЛАВА 6
Дед мой, «дедушка Михаэль», был в свое время богатым православным крестьянином. У него были два колодца с черпаками для поливки, укрепленными на деревянных колесах, яблоневые сады, ухоженный тополиный лесок, десять пар быков и сотни гусей. Ты наверняка читала о таких хозяйствах в книгах.
В Астрахани, близ Каспийского моря, в тех местах, где он родился, Михаил Назаров был известен как «Колокольный батька», потому что он регулярно жертвовал деньги на отливку церковных колоколов. Затем, в 1898 году, произошли три события, между которыми нельзя было бы усмотреть никакой связи, когда б не твои расспросы. Князь Антон из дома Гесслеров отплыл в Александрию, в Иерусалиме родился мой отец Авраам, а Михаил Назаров пришел в Святую землю во главе четырехсот пятидесяти паломников, которые тащили с собой гигантский медный колокол для иерусалимской церкви Марии Магдалины.
Колокол отлили в Одессе и поставили на огромную телегу, специально построенную для этой цели. Мужчины дотащили ее до пристани. Оттуда они отплыли в Яффо на корабле «Святая Анна», а там в повозку впряглись женщины. С той минуты никто не говорил, потому что все поклялись хранить обет молчания до тех самых пор, пока колокол не окажется на месте. Еще долгое время спустя можно было опознать участников того паломничества по их походке — они ступали с усилием, согнувшись, как будто выгребали против сильного встречного ветра. Таким же шагом возвращался домой, в свою деревню, и дедушка Михаэль. Он принес с собой небольшую, но увесистую коллекцию камней — с Голгофы, с Тивериадского озера, с горы Фавор и из Вифлеемской пещеры — и добыл даже осколок скалы, которая подпирала собою Крест. Потом он извлек подарки домашним: иерусалимские цветы, засушенные между двумя дощечками из оливкового дерева, жестяную лампу, зажженную от святого огня храма Гроба Господня, расшитые восточные ткани, двух брошенных гусят, которых он подобрал возле Баба-Загары, и белые накидки, которые были смочены в Иордане и уже высохли, но стоило их намочить, как они тотчас издавали прежний запах.
Затем он поспешил к своим деревенским колоколам, и там с ним приключилось нечто ужасное. Как только он потянул за канаты и языки начали греметь, его вдруг поразила страшная боль в суставах. Поначалу он решил, что надорвал сухожилия, когда тащил огромный колокол, или же подхватил какую-то восточную болезнь, а то и одно из тех гнетущих и зловредных недомоганий, которыми Иерусалим обычно поражает паломников. Но когда наутро боли вернулись с удвоенной, а на следующий день — с утроенной силой и начали звенеть и отдаваться во всем теле, пока не свалили его, орущего и плачущего, на землю, он рассудил, что знак этот—свыше, и понял, что ему надлежит сделать. Он лег на свою лежанку (мать всегда говорила «лежанка» вместо «кровать»), закрыл глаза и увидел в своих мечтах, как он переходит в иудаизм.
Целый месяц деревенский дьякон спорил с Михаилом Назаровым, но так и не смог удержать его от принятого решения. Наш дед остался при своем. Он запряг в повозку трех лошадей, отправился в город и привез оттуда моэля и рабина, чтобы приобщить всех членов семьи к завету праотца Авраама. Перед обрезанием мужчин привязали веревками к большому амбарному столу и влили им в горло по кувшину водки, чтобы заглушить боль, но их страшные и мучительные вопли все равно вырывались из амбара, отражались от заборов и катились в поля. Голуби и пастушьи собаки с перепугу удрали со двора. Только дедушка Михаэль отказался от веревок и потребовал, чтобы его обрезали стоя и обязательно кремневым ножом. Он сдвинул бедра, оперся спиной на балку амбара, зажал в зубах деревянную щепку и, пока моэль отрезал ему крайнюю плоть, истер эту щепку в крошево.
Мать тогда еще не родилась, но она столько раз слышала этот рассказ, что сама ощущала ту отцовскую боль. Рассказывая об этом, она прикрывала глаза, заглядывала в тот амбар и видела его побелевшие пальцы и лицо, сморщенное, как у новорожденного. А после того, как он пришел в себя и улыбнулся своей первой еврейской улыбкой, в его лице уже не было прежних, знакомых черт.
Через год после этого гиюра[23] продал новообращенный еврей, гер[24] Михаэль Назаров, свой дом и поля, погрузил на три телеги беременную жену, двух сыновей, плуги, домашнюю мебель и мешки с семенами, поцокал языком на огромных волов и на стаю гусей, народившихся от привезенной из Иерусалима пары, и взошел со всем своим имуществом в Страну. Мать родилась на пути в Эрец Исраэль.
Дедушка Михаэль купил себе участок земли в долине, очистил его от камней, выжег проклятие сорняков и злобное своеволие диких колючих слив, и стал пахать, и сеять, и каждое утро благословлять Создателя за то, что Он сделал его евреем и привел в землю «Абрама, Исака и Якова», чтобы обрабатывать и беречь ее. «Все хорошо, Все хорошо», — повторял он и улыбался чиновникам, которые расспрашивали о его положении, так что те вечно ставили его в пример еврейским поселенцам, которые вечно предъявляли претензии и требования и злились на новых соседей, потому что те не умоляли о помощи и ни о чем не просили.
Иврит геров был беден и тяжеловесен, и молитвенник деда был написан наполовину по-русски, наполовину на иврите. «Я читаю по-русски, — сердито отвечал он насмешникам, — но Всевышний, благословенно Имя Его, заглядывает через мое плечо и читает на иврите». Сара стыдилась ходить в деревенскую школу, а ее родители и братья по той же причине почти не говорили даже друг с другом и превратились в больших молчальников. Мой брат Яков (который работал у них в дни своей юности, стал их любимцем, привязался к ним и понимал их лучше меня, хотя я больше на них похож) рассказывал, что эту молчаливость переняли и их дети. Мать тоже не умела ни читать, ни писать до самой смерти, а говорила плохо и с ошибками, и это вызывало у отца злорадство и стыд одновременно.