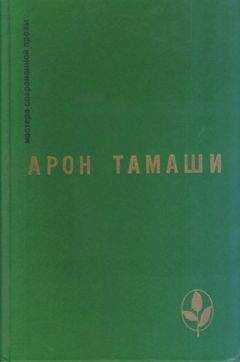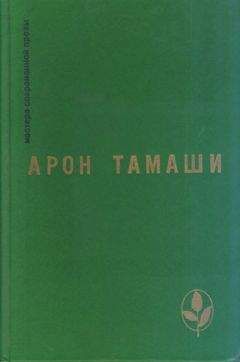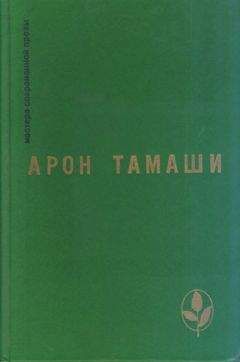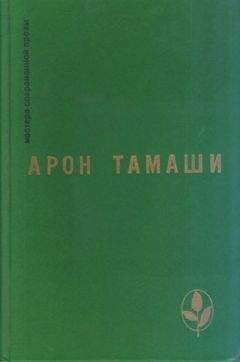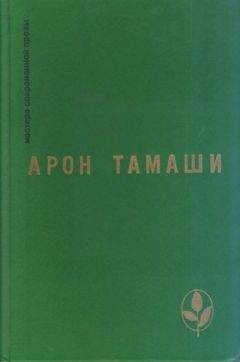Арон Тамаши - Абель в глухом лесу
— И вот гости мои монахи уж так проворны, что и молоко их проворнее.
— Так мы не закипели еще, с чего нам бежать, — пошутил отец настоятель.
— Еще не поздно, — сказал я ему, — ведом и мне кое-кто, кому и не терпится на огне вас поджарить.
— Кто ж такой? — спросил отец настоятель.
— Да кто же еще, как не дьявол!
Фуртунат прямо оторопел, но, увидевши, что настоятель от всего сердца смеется, смягчился тоже.
За разговором я не сидел без дела, собравшись их теплым молоком угостить. Поставил на стол две кружки, одну доверху налил, гляжу — а на вторую-то осталось всего ничего. Подумал я малость и говорю Фуртунату:
— Вот хочу я спросить вас… ответите?
— Чего ж не ответить, только каков вопрос?
— А вот каков, — говорю. — Хотел я спросить: была ли господня воля на то, что сбежало молоко давеча?
— Ясное дело, была, — отвечал Фуртунат.
— Вот и ладно, — сказал я и полную кружку отцу настоятелю поставил, а ту, недолитую, к Фуртунату придвинул. Фуртунат посмотрел сперва на кружку настоятеля, потом в свою да и спрашивает:
— Это ж почему здесь едва половина? Где другая?
— Другая-то убежала по воле господней, — повторил я его слова.
Еще некоторое время вели мы беседу по той же дорожке, так что по закону божьему экзамен я вроде как выдержал, пора было о другом говорить. Да я-то больше хотел гостей своих поразвлечь, а им было нужно другое — дрова сторговать. В полдень вышли мы на делянку, поленницы оглядели. Настоятель оказался человек сведущий, желал собственными глазами видеть, что покупает. Одну саженную кладку даже разобрать приказал — нет ли, мол, в середке пустоты или другого какого обмана. Наконец успокоился и объявил:
— Пятьдесят саженей нам надобно.
— Надобно, так здесь они, — отвечал я.
— И какая ж цена?
— Двести за сажень.
— Это дорого.
Моя б воля, я отцу настоятелю и за сто пятьдесят продал бы, со священниками я покладистей, чем с мирянами. Да только хозяин-то был не я, так что пришлось держаться двухсот. Наконец дело сладилось, отобрали мы пятьдесят саженей. Каждую буквой «М» пометили. Пока закончили и повернули обратно, одежа наша совсем отсырела. Настоятель, поежившись от холода, заметил даже:
— Экая непогода, так и давит, с ног человека валит.
Я такого прежде не слыхивал и потому сказал:
— Непристойно все ж таки с ее стороны.
Фуртунат погрозил мне пальцем:
— Погоди, ужо я тебе язычок обрежу!
— А что, я не прочь, — говорю ему, — ежели сумеете другим заменить.
— Это ему запрещено, — смеясь, сказал отец настоятель, и так удачно это у него сказалось, так просто, что я сразу душою к нему прикипел.
— Счастлива та мать, — говорю, — что вас родила.
И сразу понял: обрадовали его эти слова, он даже обнял меня, словно родной отец. Фуртунат смотрел на нас с завистью, видел, что пришлись мы друг другу по нраву, характерами оказались под стать. И таким теплом меня обдало от этой сердечной близости, что и поддразнивать больше их не хотелось.
— Ладно уж, я вас помилую, — сказал я им.
— Это как же ты нас помилуешь? — удивился отец настоятель.
— А так, что больше не стану каверзные вопросы вам задавать.
Блоха, конечно, все время была с нами; когда мы уж близко были от дома, она вдруг остановилась и зашлась лаем. До этого, как обычно, бежала впереди нас шагов на двадцать, но вдруг поглядела на дерево и прямо осатанела.
— Какую-нибудь большую птицу увидела, — предположил отец настоятель.
Я бросился вперед: что Блоха видит, то и мне видеть нужно!
— Ого, а птица-то и впрямь велика! — крикнул я, оборотясь к моим спутникам, да так захохотал, что и Блоху заглушил. А как же было не смеяться-то, когда я увидел на том дереве не птицу, а Маркуша! Он сидел на крепкой ветке, до шеи задрав сутану; мне даже было видно, что штаны его там и сям собственной его кожей залатаны. Так я стоял, снизу глядя на Маркуша и помирая со смеху, и вспомнился мне один случай, когда в четырнадцатом году отца моего взяли в солдаты. Он тогда повез меня и матушку в город, к фотографу, чтобы сняться вместе, пока мы все трое живы. Фотограф поставил нас перед своей машиной, а сам напялил на голову черное покрывало, вроде сутаны, и, скособочась, влез в него чуть не весь целиком. Маркуш выглядел сейчас точь-в-точь так же, словно у того фотографа выучку проходил.
Подошли монахи, увидели на дереве Маркуша и тоже не выдержали, засмеялись.
— Это что ж ты там делаешь? — спросил отец настоятель.
— Землю фотографирует, — не утерпел я.
А Маркуш сказал:
— Я белку увидел.
— Ну так что же? — допытывался отец настоятель.
— Он хотел поближе ее разглядеть, не фальшивая ли… как монета к примеру, — опять я встрял в разговор, и Маркуш на этот раз отозвался, сказал мне, смеясь:
— Да она и вправду фальшивой оказалась.
Настоятель знаком велел нам с Фуртунатом помолчать — он сам, мол, желает беседу продолжить.
— Почему же фальшивая? — спросил он.
— Так ведь убежала она, — сказал Маркуш, посмеиваясь.
— А я уж подумал, потому что с дыркою.
— Дак пятьдесят банов монетка тоже с дыркой, а не фальшивая, — рассудил Маркуш.
— А ты, оказывается, и в деньгах разбираешься, Маркуш? Где научился?
— Я-то? А на дороге.
— Как на дороге?
— Да я давеча на дороге такую монетку нашел.
Настоятель оглянулся на нас — понравилась ли нам их беседа? Но тут и спрашивать было нечего, так мы были довольны.
— С этакими познаниями Маркуш, того гляди, в министры финансов выйдет, — вставил словцо Фуртунат.
— Очень даже просто, — подхватил я. — И прикажет белок чеканить.
— И мы тогда белками за дрова уплатим, — нашелся отец настоятель, на что я ему тут же, да радостно так:
— Эк славно-то! Ведь деньги-белки еще и приплод принесут!
Вот так-то ловко да складно мы отвечали друг дружке, как если бы сам господь с нами был — а где ж и быть ему, как не там, где три монаха сошлись.
— Ну что ж, пора и под крышу, — сказал я.
Пока разговор сверху вниз да снизу вверх, на дерево, перескакивал, Блоха много раз пыталась нас домой увести — очень она стыдилась, что сперва не признала на дереве Маркуша. Так что, когда и я гостей в дом позвал, она весело вперед побежала, сама дверь отворила. На радостях еще игру с кошкой затеяла — та дремала, свернувшись клубком, под печуркой. Я подложил в печку дров, а настоятель с Фуртунатом сели, как прежде сидели, и наблюдали, видно, как Блоха с кошкой заигрывает, только вдруг слышу, настоятель говорит:
— Ишь как она лежит, прямо старая дева.
— Это вы про кого? — спросил я.
— Про кошку твою.
— Ну, тогда навряд ли похоже.
— Отчего ж?
— Оттого, что кот это, а не кошка.
Тут Фуртунат вступился:
— Не это важно!
— Еще как важно-то! — не согласился я.
Настоятель слушал нас, видно, вполуха и понял только, что мы говорим о кошке.
— Да, может, она хворая? — спросил он участливо.
— А как же, хворая.
— И какая же хворь у нее?
— А такая, что все, кто мил ей, в селенье остались.
— Так у ней и котята есть?
Тут даже Фуртунат не выдержал, очень его насмешила промашка отца настоятеля. В подробности вдаваться мы больше не стали, да и не до того было, потому как в двери появился Маркуш. Он смотрел на отца настоятеля с блаженной своей ухмылкой, словно гордился, что ловкий такой, сам с дерева слезть сумел. Волосы у него все вздыбились, словно улететь собрались, лицо в грязи, сутану хоть выжимай — можно подумать, он не одно, а три мокрых дерева обтер сверху донизу.
— А ну, повернись-ка, Маркуш! — сказал отец настоятель.
Маркуш повернулся, да только и со спины выглядел он не краше.
— Ладно, Маркуш, самое время твои именины справлять, — улыбнулся настоятель. — Ступай принеси, что там у нас припасено.
Я-то думал, Маркуш вернется с котомкой, с какой-нибудь торбой, а он притащил целый сундук. Так и вошел с сундучком на плече, словно мой дом — казарма, а он новобранец, рекрут. Настоятель знаком указал ему, чтоб поставил сундучок возле стола. Маркуш сделал, как было велено. Отец настоятель встал, из кармана сутаны выудил ключ и, наклонившись, отпер замок, крышку откинул; выпрямился не сразу, постоял так, согнувшись, не шевелясь, в молчании, словно творил молитву, потом сказал тихо:
— Что съедим, то и наше.
— Да еще жизнь вечная, — добавил я.
Маркушу мои слова, видно, понравились, потому как он подошел и стал трясти мне руку.
А настоятель, времени не теряя, уже выкладывал снедь на стол, и скоро он весь был уставлен знатными яствами. Чего там только не было: жареное мясо, коржи со шкварками, сыр, улыбчивые спелые фрукты. А посреди стола, как два бравых солдата, вытянулись две бутылки — одна с можжевеловой палинкой, другая с вином. Привезли они с собой и стаканы, да только две штуки. Поэтому настоятель разбил нас на пары: из одного стакана пил он сам и Фуртунат, из другого — мы с Маркушем. Для разгону сделали по глотку можжевеловой палинки, да больше ее и нельзя — что за напиток особенный, жар для души, а не палинка! У меня даже слезы на глазах выступили, и я утер их тыльной стороной ладони.