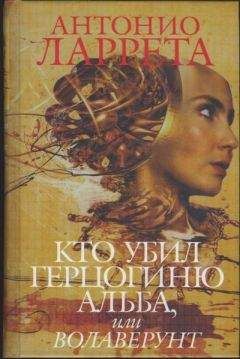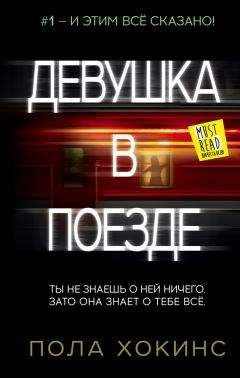Антонио Ларетта - Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт
(Гойя не преувеличивает. Помню, за два года, не меньше, до событий, о которых он рассказывает, Каэтана вместе с тогдашним министром Корнелем ужинала у короля и королевы, после чего донья Мария-Луиза сказала мне, что герцогиня стала похожа на «сушеную рыбу». Тогда я подумал, что эти слова продиктованы слепой ревностью, но через несколько дней на вечере у Аламеды де лос Бенавенто-Осуна я встретил Каэтану, которую уже давно не видел, и был поражен и обеспокоен столь преждевременным увяданием этого красивейшего создания.)[66]
Горе, дон Мануэль… И мне казалось, я знаю, что это было за горе, хотя я и не осмеливался говорить с нею об этом. Еще в расцвете нашей дружбы, в 1796 году, когда мы вместе были в Санлукаре, однажды ночью она вернулась очень возбужденная, не помню уже с какого бала, и сказала, что открыла новое воистину чудодейственное лекарство. Кто-то привез его из Америки, листья кустарника, которые жуют индейцы Андского плоскогорья. Вы, вероятно, слышали о нем. Мне тоже доводилось слышать при дворе разговоры о его необычайных свойствах. Ну так вот, этот кто-то занялся их мацерацией, или дистилляцией, или синтезом… словом, какой-то алхимией, а по мне, так и колдовством, и получил из листьев мелкий порошок, который достаточно лишь раз вдохнуть, как он тут же оказывает воздействие на организм.[67] Она открыла драгоценную табакерку с этим порошком – ей только что дали его на пробу. По правде говоря, в тот вечер мы его попробовали оба, и потом пробовали еще много раз в течение того года – я был в восторге, в какой-то момент мне даже показалось, что порошок действует на чувства и на мозг таким образом, что ощущения как бы удваиваются и вместе с ними удваивается моя способность схватывать цвет и форму предметов, не только реальных, но и воображаемых, и что я стал наконец художником, каким всегда мечтал стать, и теперь могу писать то, что скрывается за поверхностью действительности, – мир нашего воображения, наших снов! Однако цена была чрезвычайно высокой. Я понял это вовремя. Возможно, вы помните один из моих «Капричос», я назвал его «Волаверунт»? Там изображена горделивая маха, над ее лбом раскинула крылья огромная бабочка, кажется, что она увлекает маху в полет, куда-то туда, к наслаждениям, и та не обращает внимания на монстров, скорчившихся у ее ног. Но победят все-таки монстры, вы меня понимаете? А бабочка – всего лишь мираж. Этот ужасный порошок сначала рождает в голове чудесных разноцветных бабочек, а потом ввергает нас в серый ужас ада. Такова идея «Волаверунта». Я уже сказал, что вовремя понял опасность. Человек привыкает к этому порошку, начинает принимать его все чаще и чаще и кончает тем, что становится его рабом. Я поделился с ней опасениями. Она посмеялась в ответ. Она приписала их моей крестьянской подозрительности и ограниченности взглядов, свойственных моему возрасту. А вскоре наши отношения прервались – нет-нет, я отнюдь не хочу сказать, что пресловутый порошок способствовал разрыву, – я вернулся в Мадрид, а она осталась в Санлукаре, в окружении многочисленной свиты, состоявшей в основном из тореро, и – если только мои подозрения меня не обманывают – целиком отдалась привычке принимать этот порошок. Подобно тому, как мы никогда впоследствии не касались в своих разговорах любви и ненависти – они стали для нас запретной темой, – мы никогда больше не упоминали и о нем, то есть о порошке, и это было косвенным признанием того, о чем мы не говорили открыто: что существуют вещи, способные посеять между нами раздор. И вот теперь, по прошествии нескольких лет, она сидит в моей мастерской, покорная и безучастная, и ждет, чтобы я расписал ее как холст, как доску, как медную пластинку, и у меня не хватило духу сказать ей: все дело в том проклятом порошке, я уверен, ты принимаешь его, это он разрушил тебя, оставь его, у тебя есть еще время, оставь его – и ты снова будешь прекрасной, какой была прежде, и тебе не придется унижаться до того, чтобы я своим искусством возвращал блеск и цвет, которые всегда были твоими, только твоими…
(Гойя вкладывает столько страсти в свой рассказ, что в какой-то момент все, что случилось в июле 1802 года, становится все ближе и ближе к настоящему дню, и в силу волшебного эффекта воспоминаний сам Гойя кажется все более и более молодым, его голос набирает силу и становится звонким, глаза горят задором, движения делаются проворными, и мне уже чудится, что передо мной Гойя моих первых воспоминаний о нем, а вовсе не тот старик, который объявился вчера в кондитерской Пока.)
Я так и не сказал ей ничего. Я выложил на столик свои самые маленькие кисти, взял широкую палитру с красками и приступил к работе; я пустил в ход не только мое мастерство, но и все то, чему я научился, наблюдая, как мои подруги-актрисы, особенно Тирана и Рита Луна, изящно и изощренно подкрашивали лица, прежде чем начать позировать для моих портретов.[68] Для меня как для художника не составило труда воспроизвести эту технику: охра кладется как грунт, карминные разной интенсивности идут на скулы и виски, черными подводятся глаза, охряные, зеленые и фиолетовые тени наносятся под изгибы бровей и на веки. Можете вообразить, какие противоречивые чувства обуревали меня, когда я, намазав пальцы краской, как какая-нибудь донселья или цирюльник, размалевывал ими это лицо, теперь такое дряблое, но все же ее, лицо женщины, которую я когда-то так любил, да и в тот момент, возможно, еще… Но довольно. Это не относится к делу. В мои пятьдесят девять лет я по-прежнему неисправим. Ну так вот, мало-помалу я вернул ее лицу свежесть, девичий румянец, мягкие переходы тона, бархатистость, все это было совершенно искусственным, но выглядело безукоризненно. Я закончил свою работу; нетерпеливо и властно она потребовала зеркало – я бросился за ним бегом, но ей казалось, что я двигаюсь невероятно медленно. Это было уж слишком. Не знаю, кто из нас двоих был более жалок. Я стал собирать кисти.
Она сказала мне что-то относительно шеи. Я не смотрел на нее и едва слышал, что она говорит, я был слишком раздосадован и не обращал на нее внимания. Но когда я собрал кисти и повернулся в ее сторону, то увидел, что она запрокинула лицо, подняла вверх зеркало и красит себе белилами шею, мягко, но неровно водя пальцами под подбородком. Я медлил мгновение, пока до меня не дошло, что происходит, а потом с криком кинулся к ней, вырвал у нее из руки банку с белилами и, опрокинув ее на диван, принялся отчаянно тереть ей шею своей рубашкой. Она не сразу поняла, что случилось, – да и вы, дон Мануэль, судя по тому, какими глазами на меня смотрите, не вполне это понимаете, а? – но достаточно было одного слова, которое мне с трудом удалось вставить в поток возмущенных восклицаний, сопровождаемых протестующими жестами, как до ее сознания тут же дошло: яд! Да, яд. Серебряные белила – это яд, и очень опасный, поэтому я всегда заботился о том, чтобы держать их вместе с другими вредными красками отдельно от остальных, и уж конечно от тех, которыми собирался тонировать лицо женщины.[69] Наконец мы успокоились, я умерил свои упреки, она – свои сетования и насмешки, мне удалось снять разбавителем остатки белил, и, хотя теперь она жаловалась на жжение, опасность отравления миновала.
«Какая досада, – продолжала сокрушаться она, – придется мне сегодня весь вечер прикрывать шею газовым платком, а ведь это – уловка старух». И она все изумлялась тому, что краски, которыми пользуемся мы, художники, могут быть такими вредными, так что мне пришлось рассказать ей о кобальте фиолетовом, о желтой неаполитанской, о веронской зелени…[70]
«Но какая хитрость, – заметила она, – иметь такие нежные поэтические имена и быть такими ядовитыми, как цианистая соль или мышьяк…» Она рывком поднялась на ноги, на этот раз я действительно надеялся, что она уйдет, но она, вопреки моему ожиданию, снова принялась расхаживать по мастерской, останавливаясь перед «Обнаженной», отпуская для себя самой какие-то замечания, которые я не мог расслышать, и все высматривала что-то среди полотен, искала и тут, и там, по всей мастерской, так что я уже начал терять терпение, но она наконец нашла то, что ей было нужно: последний портрет, который я сделал ей еще в Санлукаре, она называла его «мой портрет в черном». Теперь ее уже ничто не могло остановить: она заставила меня поддерживать этот портрет высотой в добрые два метра, прислонив его к спинке креста, а сама стала перед ним, как перед зеркалом, вглядываясь в себя, другую, и обе они были написаны мной, но вся ирония заключалась в том, что та, на картине, обладала более естественной, подлинной красотой, она как бы говорила: «Такой ты была». И тут, словно эхо моих мыслей, я слышу, как она в самом деле произносит: «Такой я была». И, подбежав к «Обнаженной», обличающе указывает на нее пальцем и добавляет: «И такой тоже…» Она смотрит на меня с негодованием, потому что мои картины причиняют более жестокую боль, чем ее собственная память, и говорит с угрозой: «В один прекрасный день я приду к тебе, Фанчо, и ты распишешь мне тело, я заставлю тебя покрыть его этими серебряными белилами, чтобы изобразить саван, и тут же умру…»