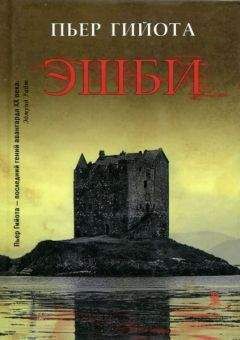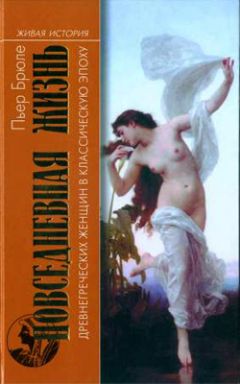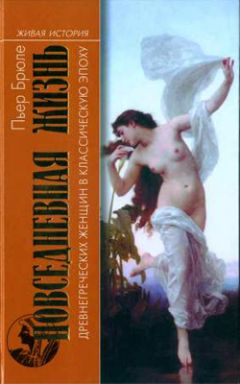Пьер Гийота - Воспитание
Эти люди, в большинстве своем вышедшие из лагерей, всеми порицаемые и угнетаемые, их обычаи, приписываемые им занятия, их неустроенная жизнь, дома на колесах, их незнакомый язык, ремесло музыканта и плетенщика, внушают уважение. Значит, возможно противостоять закону одним лишь своим существованием, одним лишь утверждением своего присутствия, пусть даже непостоянного, в неком месте. Этот народ, в сущности не знающий о своем происхождении, его дети, не принадлежащие никому в отдельности, свобода их жестов и поступков в отношении взрослых: сердце бьется от волнения, когда, выйдя из сада моей бабки или из дома, после ее скромных, но весьма аккуратных полдников, я шагаю по дороге, ведущей к табору.
Столько рук тянется ко мне, и вот через год я возвращаюсь с их толпой, изменившись до неузнаваемости, делаю сальто, играю на скрипке и танцую, у меня уже есть собственные дети, и мои близкие больше не узнают меня.
Я происхожу от Бога Отца и Сына, а не от своих земных предков. От того, что я ощущаю гораздо глубже, и от чего на глаза наворачиваются слезы, когда я наедине со своей флейтой, всё из-за этого надмирного происхождения.
*
В раннем детстве, после рассказа о Пятидесятнице, остановившись в саду между забегами, от которых идет носом кровь, или приподнявшись над землей и поедая фрукты, я смотрю в небо, на стремительные облака: почему у нас есть лишь руки? Почему мы не летим быстро-быстро над растениями, кустиками, деревьями, домами, горами, водой к нашим собратьям и сестрам из Африки, Азии, Америки, Океании, чтобы, спустившись к ним, тотчас заговорить на их языках? Почему мы не можем видеть мысли и чувства других, а другие - наши? Почему не можем силой желания, одним лишь его высказыванием перенестись - только мысленно или еще и телесно? - на другое полушарие; едва уснув здесь, пробудиться там, у изгороди на опушке джунглей, поесть больших плодов, побегать за диковинными животными, почему не можем перенестись в прошлое, в будущее; увидеть собственные действия, направляющего, укрепляющего нас двойника? Ведь ангела-хранителя уже недостаточно.
В ту пору я боюсь стать убийцей и равно боюсь перестать существовать внешне, когда много мечтаю и думаю: зеркала теперь недостаточно, меня нужно сфотографировать или, еще лучше, снять на кинопленку: я боюсь поглощения моей плотской оболочки моими мыслями, фантазиями, после чего у меня останется лишь внутренняя жизнь.
*
Среди книг, что я читаю в нашем доме в Сен-Жан-де-Бурне, лежа на паркете или на зеленом канапе в малой гостиной, где помещается основная домашняя библиотека, в промежутке между Жюль Вернами в Хетцелевом издании[113] я начинаю «Поля и Виргинию»[114]: гроза, прибытие Пьера, вплоть до главы о «беглой негритянке». Эмоции столь сильны, что в комнате, нагретой от жаренья орехов с сахаром, которые я со своими многочисленными кузенами и кузинами только что готовил на маленькой деревянной плите, я теряю сознание: придя в себя, встаю и через застекленную дверь соседней большой гостиной выхожу в сад, еще влажный от недавней грозы.
С самого конца войны мать рассказывает нам, в связи с драматическими событиями в Индии, про колониализм, соперничество французской и британской империй, про Фашодский кризис[115], книга о котором есть в ее библиотеке, про Южную Африку, Бурскую войну[116], первые концлагеря XX века, организованные Китченером[117] для непокорного населения, и, прежде всего, про чернокожих жертв сегрегации на собственной территории; у матери складывается такое возвышенное представление о французской армии в целом, особенно о колониальной армии в ее идеале, столь богатой легендарными фигурами - отец де Фуко[118], Эрнест Псикари[119] и др., что она не в силах постичь, как эти войска, под предводительством офицеров, на которых она смотрит глазами своих братьев и родственников, высокоморальных христиан, могут совершать подобные гнусности: эти буры как-никак протестанты, эксплуататоры чернокожих и чуть ли не рабовладельцы, уважающие, даже судя по их именам, былые и слишком суровые для нее библейские принципы, подобные правилам американских пуритан, они ей ничуть не по нраву и преследуются здесь Англией-завоевательницей - исключительно ради защиты и расширения ее мировой торговли.
В те времена вся Черная Африка ассоциируется с красотой, племенными плясками, голыми и разукрашенными женщинами и мужчинами, опрятными деревнями и огороженными участками, а кроме того с болезнями: правда, сонная (муха цеце), лепра, бери-бери строго очерчены, медицина белых уверенно продвигается вперед, точно завоеватель или ассенизатор, очищающий и оздоровляющий области и народы; эти болезни - следствие отсталости, стало быть, для их искоренения достаточно «цивилизовать» население; сами по себе африканцы чисты сердцем и душой. Цивилизация обретает здесь плодородную почву. В Западной Европе, на незначительной территории, развращенной бесчестьем, зло и величие столь неразрывно связаны, что не возникает четкого образа, к тому же недавняя война с ее зверствами скомпрометировала цивилизацию; а коммунизм, в свою очередь, угрожает вымиранием. Но Черная Африка, со своими масштабами, географией, землей, растительностью, неторопливыми реками, внушает доверие: даже хищные звери, колдовство - цивилизация способна их укротить и устранить или превратить в положительные силы.
Адаптации спиричуэла и госпела уже поются в католических общинах: образ танцующей веры афроамериканцев, - пришедшей издалека: нечеловеческое положение раба - и осовремененной, - верующие импровизируют с гимнами, псалмами, - запечатлен на поучительных фотографиях.
Наша мать слушает Мариан Андерсон[120] еще до войны и после Освобождения в Париже, на концертах спиричуэла и классических Lieder[121], она восхищается этой певицей, свидетельницей отстаивания американскими чернокожими своих прав, этим образом ненасильственного достоинства: мать рассказывает мне о сольных выступлениях, на которых она присутствует, и даже пытается подражать ее нежному голосу. Весьма чуткая к бедам чернокожих в Америке, она отговаривает меня читать «Хижину дяди Тома», слезный роман с ее точки зрения, но, по-моему, она просто хочет пощадить мое слишком большое сердце, чтобы оно не билось так быстро.
Прочитав ту сцену о беглой негритянке, я непрерывно выискиваю во всех книгах и журналах, оказавшихся под рукой, фразы, абзацы, иллюстрации о рабстве: изображения продажи рабов на юге Соединенных Штатов, с торгами, продавцами и покупателями в шляпах, одежде и сапогах, вокруг этих тел, закованных в кандалы, в легких хлопчатобумажных сорочках, разлученные семьи, грузы невольничьих суден накладываются на образы утренних и вечерних перекличек в концлагерях, колонны узников, вагоны для скота с зажатыми в них людьми, мертвыми и живыми: эти жители Запада, христиане, республиканцы, задирающие губы рабов, дабы взглянуть на их зубы, - те же нацисты, вырывающие золотые коронки у отравленных газами и сгоревших узников. И хотя там гравюры, а тут фотоснимки, это ничего не меняет.
Однажды, читая прижизненное издание вольтеровского «Задига» и дойдя до «Кандида», я натыкаюсь на главу «Негр из Суринама».
Я знаю, я уже давно читаю о том, что римляне, греки и многие другие владеют рабами - даже евреи, хоть у них и менее строгие законы, но они все равно не могут заступиться за Христа.
Нам известно, что между Серьером и Вьенной есть небольшая могила, римская стела, посвященная хозяевами нежно любимой рабыне. Мы ищем ее на дороге вдоль берега Роны, но так и не находим. Когда я читаю, что императрица Жозефина родилась в семье плантаторов на Мартинике, моя симпатия к Наполеону вновь идет на убыль: я еще не знаю, что Первый консул восстанавливает рабство, отмененное Конвентом.
В то же время, что и мое первое причастие, я смотрю первый свой фильм: в «Фойе», приходском кинозале, - где я также смотрю спектакль «Богоматерь Муизская», о бедствиях Зоны в северном предместье, поставленный нашей местной труппой «Друзья джаза». Это «Дон Боско»[122], черно-белый итальянский фильм 30-х годов. Галлюцинация ребенка, который просыпается в общей спальне на родной ферме и, словно сомнамбула, шагает навстречу видению, озаряющему окно, это световое видение - рождение кино, причастие, озаряющее интерьер, и в ту пору мне кажется, что его очертания расходятся лучами, что это и моя судьба, мой грядущий свет; я смотрю на луч проектора почти столько же, сколько и на изображение, передаваемое на экран. Так я узнаю: во времени и пространстве есть световые годы. Этот луч, с частичками пыли и света, пересекающими большой зал, шум двигателя в будке за спиной придают механичную, реалистическую достоверную сверхъестественному действию проектора и появлению света Христова: я знаю, что тоже могу стать святым, что эта способность - результат тайной договоренности между Господом и мной.