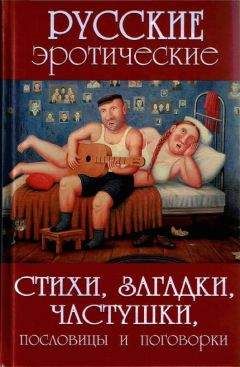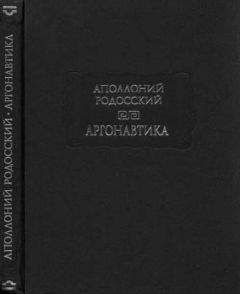Курт Воннегут - Рецидивист (Тюремная пташка)
Уж я-то, будьте уверены, хоть на коленях умолять его об этом примусь, свои диплом доктора миксерологии прямо в физиономию ему суну.
А если вдруг сына своего на улице запримечу — это я грезил так, — сразу же повернусь спиной, и пусть его своей дорогой идет.
— Христос, — никак Ларкину не надоест вещать, — велел не отступаться от грешников, но от тебя я, кажется, сейчас отступлюсь. Сидишь как пень, стены разглядываешь — ничем тебя не пронять.
— Похоже, ничем, — соглашаюсь.
— Упырь, — говорит, — ненасытный, сроду таких не встречал.
Знаете, таких в балагане показывают: валяется в клетке на соломе и головы живым петухам откусывает, да еще при этом рычит, а все объясняют, что его привезли с острова Борнео, где он вырос среди диких зверей. По американской иерархии ниже находиться уж никак невозможно, разве если в ящик сыграешь.
Вот Ларкин, обозлившись, и взялся меня, как встарь, изводить.
— Помнишь, тебя в Белом доме так и прозвали — Упырь. Чак Колсон придумал.
— Было дело, — говорю.
— Никсон ни во что тебя не ставил. Просто пожалел. Поэтому ты и должность свою получил.
— Да знаю.
— Тебе даже на службу являться не обязательно было.
— Не обязательно.
— Мы тебе поэтому и кабинет подобрали без окон, без соседей, — пусть сразу поймет, можно и не являться, никто внимания не обратит.
— Но я-то кое-что делать все равно старался, — возражаю. Может, твой Христос примет это во внимание.
— Если насмехаться над Ним вздумал, так лучше вообще помолчи, — советует он.
— Хорошо. Только ведь это ты про Него первый заговорил.
— А знаешь, когда ты упырем заделался?
Я только одно знал: с какого момента у меня в жизни все покатилось под откос — крылья сломались, и почувствовал я, что никогда больше не смогу взлететь. Больно мне вспоминать, как я все это понял, больнее не бывает. Вот и сейчас горечь на меня нахлынула, такая горечь, что заставил я себя, наконец, прямо в лицо Ларкину посмотреть и — сказал:
— Бога ради, я же старый человек, оставь ты меня в покое.
А он от радости так и сияет.
— Ура, — вопит, — видишь, Старбек, не выдержала твоя гарвардская шкура задубелая. Прошиб я тебя все-таки, а?
— Прошиб, — признаю.
— Глядишь, теперь дело легче пойдет.
— Надеюсь, нет, — буркнул я и опять уставился в стену.
— Я, — сообщает, — твой голос еще мальчишкой первый раз услышал, в Петоски, штат Мичиган.
— Понятно.
— Ты по радио говорил. Отец нас с сестренкой тогда все время радио заставлял слушать. «Только, — предупреждал, — не провороньте ничего. Ведь сейчас совершается история, слушайте повнимательнее».
Это он, значит, тысяча девятьсот сорок девятый год вспомнил. Я со своей маленькой семьей человеческой только что вернулся в Вашингтон. И мы въехали в свое кирпичное бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд, — где дикая яблоня, помните? Начиналась осень. Яблоня вся в плодах, мелких таких, кривеньких. Рут, жена моя, собиралась джем из них сварить, она потом каждый год это делала. Спросите: как же получилось, что я по радио говорил и меня слышал у себя в Петоски маленький Эмиль Ларкин? А дело было в Палате представителей, в специальном комитете, у них свое помещение имелось. Везде микрофоны, прямо в нос тебе микрофон суют, а я даю показания, и дотошнее всех оказался один молодой конгрессмен из Калифорнии, Ричард М.Никсон, так в меня и вцепился: расскажите, дескать, про свои связи с коммунистами, вы обязаны доказать лояльность Соединенным Штатам.
Тысяча девятьсот сорок девятый: небось молодые теперь за чистую правду примут, если, глазом не моргнув, поведаю им, что этим специальным комитетам приходилось заседать на ветках, да чтобы дерево повыше было, оттого что на земле так и рыскали саблезубые тигры. Точно говорю, поверят. Тогда Уинстон Черчилль еще жив был. Иосиф Сталин тоже. Нет, вы только подумайте. А президентом был Гарри С.Трумэн. И вот Министерство обороны мне, в прошлом коммунисту, поручает подобрать команду из военных да ученых и вдобавок еще ее возглавить. Команда эта должна была разработать тактику наземных сил на случай, если на вооружении появятся атомные бомбы небольшого калибра, а все явно к этому и шло.
Комитет желал выяснить, разумно ли человеку с моей политической биографией доверять такое деликатное дело, а особенно мистер Никсон по этому поводу беспокоился. Что как возьму и передам наши тактические схемы Советскому Союзу? Или нарочно сделаю, чтобы схемы эти никуда не годились, и если нам придется воевать с Советским Союзом, то Советский Союз наверняка победит.
— Знаешь, что я, тогда радио слушая, понял? — спрашивает Эмиль Ларкин.
— Нет, — отвечаю с интонацией: мне абсолютно все равно.
— Я понял, человек может такое сделать, что его потом никто за это не простит, неважно, какие у него политические взгляды. Сам он себя за такое не простит, потому что не прощается, когда предают лучших своих друзей.
Так и не заставил я себя улыбнуться, пока он разглагольствовал насчет того, что он, дескать, тогда понял, и сейчас не заставлю, сколько ни старайся, а ведь смешно это все, правда смешно. Немыслимая получалась пародия на слушания в Конгрессе и на судебное разбирательство по гражданским делам, а кончилась эта гнусная бодяга процессом, который тянулся два года. Что он там мог слышать, когда сидел перед приемником в штанишках своих до колен?
Одни перепалки словесные, скука смертная, все равно что целый день наслаждаться треском в наушниках. Это уж когда Ларкин стал взрослым и, насмотревшись ковбойских фильмов, выработал свои моральные понятия, вот тогда и стало ему казаться, будто, ручку приемника вертя, он ясно чувствовал, что человек предает своего лучшего Друга.
— Леланд Клюз никогда лучшим моим другом не был, — сказал я.
Так звали того, кто из-за моих показаний на самое дно пошел, и фамилии наши одно время постоянно упоминались вместе: Старбек и Клюз — ну совсем как Гилберт и Салливен, или Сакко и Ванцетти, как Лорел и Харди, как Леопольд и Леб.[18]
Давненько мне не доводилось слышать, чтобы о нас опять вспомнили.
Клюз был мой сверстник, он из Йейля. А познакомились мы в Оксфорде, на регате Хенли:[19] я был рулевым, а он загребным, и наша лодка пришла первой. Я был коротышкой. А он был здоровый такой. Я коротышка и остался. А он все по-прежнему здоровый. Мы одновременно начали работать в Министерстве сельского хозяйства, кабинетики наши рядом располагались. По воскресеньям с утра играли сет-другой в теннис, если позволяла погода. Ах, денечки наши давние, салатные, мы тогда и судили обо всем как зеленые юнцы.
У нас с ним даже какое-то время машина была одна на двоих фордовского производства, «фаэтон» марка эта называлась, — и мы на ней устраивали совместные прогулки с девушками. Фаэтон — сын Гелиоса, бога солнца. Однажды он у папы одолжил солнечную колесницу и до того безрассудно на ней раскатывал, что в Северной Африке целые области выгорели, превратившись в пустыню. Пришлось Зевсу молнией его прикончить, не то бы он всю землю спалил. Правильно Зевс сделал, я так считаю. А что еще оставалось?
Но вообще-то мы с Клюзом никогда особенно близки не были, а потом совсем разошлись: он увел у меня девушку и женился на ней сам. Она была из прекрасной семьи — Новая Англия, старинный род; им принадлежала часовая компания «Уайет», в Броктоне, штат Массачусетс, да и еще много чего принадлежало. В Гарварде на первом курсе мы с ее братом жили в одной комнате, так я с нею и познакомился. Она одна из тех четырех женщин, которых я в своей жизни по-настоящему любил. Сара ее звали, а девичья фамилия Уайет.
После того как я своими показаниями его, сам того не желая, заложил, мы лет десять, а то и побольше, не поддерживали друг с другом никаких контактов. У них с Сарой ребенок был, девочка, на три года старше моего сына. Клюз поначалу считался самой яркой звездой в Госдепартаменте, все думали, что со временем он станет государственным секретарем, а может, и президентом. Да во всем Вашингтоне не нашлось бы человека, который так к себе притягивал, так очаровывать умел, как Леланд Клюз.
А заложил я его вот как: находясь под присягой, я по требованию конгрессмена Никсона перечислил имена людей, которые в Депрессию — кто этого не знал? — были коммунистами, а потом, когда началась вторая мировая война, проявили себя необыкновенными патриотами. И в этом почетном списке было имя Леланда Клюза. Тогда как-то без всяких комментариев обошлось. Но вернулся я под вечер домой и от жены, которая слушала мои показания по радио и за всеми другими программами новостей старалась уследить, узнал, что Леланд Клюз, оказывается, никогда с коммунистами связан не был, ну никоим образом.
Ставит Рут ужин на стол — мы тогда всем покупным кормились, потому что кухня в бунгало еще не была как следует оборудована, — и тут по радио передают, как Леланд Клюз отреагировал на мои показания. Он настаивал, чтобы его немедленно вызвали на слушания в Когрессе, где он под присягой засвидетельствует, что никогда не был коммунистом и не проявлял ни малейшего сочувствия коммунистическим идеалам. Босс его, государственный секретарь он тоже из Йейля, — подтвердил (так радио сообщило), что Леланд Клюз — американский патриот, каких ему больше встречать не приходилось, и что свою безусловную лояльность он продемонстрировал на переговорах с представителями Советского Союза. Этих коммунистов, говорит, Клюз в пух и прах раздраконил. А вот я, наверно, как был коммунистом, так и остался, я от своих хозяев задание такое получил — заложить Леланда Клюза.