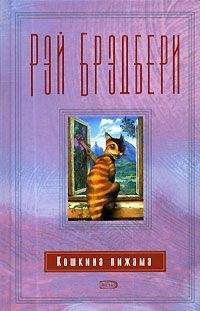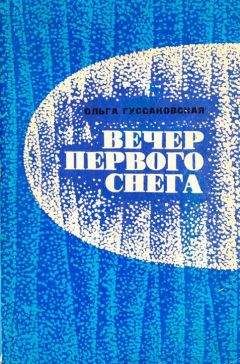Вера Галактионова - На острове Буяне
– Скли-и-изко! – морщилась она, и стучала, уже забыв про Кешу совсем. – Ой, склизко там…
Кеша вздохнул, побрёл дальше, размышляя про то, что настала пора уезжать и отсюда, а вот отчего-то жалко. Вдруг нечто тёмное стремительно пролетело сбоку, тупо стукнулось о мёрзлую коровью лепёшку. И под его ногами брызнул взрыв. Полыхнуло небольшое мгновенное пламя.
– Мать!.. – коротко выдохнул Кеша, отпрянув.
Он оглянулся с перепугу. На улице не было ни души. Только мальчик в лёгком пальто, подпоясанном бельёвой верёвкой, деловито съезжал на валенках с ледяной горки, наросшей под чугунным носом колонки. Насвистывая и придерживая что-то тяжёлое за пазухой, мальчик промчался вокруг Кеши два раза и скрылся за углом ближайшей избы.
«Мортирка!» – догадался Кеша. Он хотел окликнуть мальчика, однако замешкался, припоминая, как того зовут – «Лёха, что ли?»
За избой раздался короткий, сильный взрыв…
– Вот почему я никогда не любил детей, – понял он.
И подумал: если бы он жил в Буяне, он бы их – ненавидел.
[[[* * *]]]
От возмущения ему захотелось тут же потолковать с местными мужиками. Об этом детском безобразии и о быстротекущей, но вечной жизни – тоже. Особенно о политической! В хорошем, задушевном разговоре он мог бы им рассказать много поучительного!.. Жаль их, жаль. Погрязли в невежестве. Работа, дом, скотина. Лес огород… А где жизнь души? Где истина? Она же – в вине!.. И ноги сами понесли Кешу к продуктовому магазину.
Нет, судьба наверняка забросила его сюда с тонким расчётом! Чтобы было кому делиться с простыми людьми своими свежими знаниями, догадался он вдруг. Глубокими, между прочим…
Однако в магазине лишь три молодые крупные женщины стояли неподвижно, как три закутанные ступы, под яркой лампочкой, горящей средь бела дня, и слушали долговязого старика и дородную старуху, приоткрыв рты от внимания. А пожилая, очкастая продавщица за прилавком вязала шерстяной носок. Она вслух сосредоточенно считала петли, сбивалась на слове «шешнадцать» – и принималась отсчитывать снова, поблескивая тонкими спицами, как лучами.
– Слава работникам прилавка! – поприветствовал её Кеша.
– Семь, восемь, девять, – сказала продавщица, повышая голос, но не подняв головы.
– И всем потребительским корзинкам – слава, слава, слава! – Кеша улыбнулся трём женщинам поочерёдно и поиграл бровями – для завлекательности.
Женщины, не сводящие глаз со старухи, даже не сморгнули. Только одна, самая молодая и румяная, с досадой почесала ту щёку, на которую смотрел Кеша.
– …И вот, падчерица уж больно хорошо перед ним плясала! На этой самой на гулянке ихой, – размеренно выпевала дородная старуха проникновенным и тихим голосом.
Поверх тонкого пухового платка она была накрыта ещё кашемировой тяжёлой шалью, застёгнутой под подбородком на булавку.
– …Плясала, значит, плясала. Отчим и говорит: «Проси, чего хочешь! У меня всего полно».
– А я… – припомнил что-то старичок, закутанный пушистым вязаным шарфом до ушей.
– Мол-чи!!! – вдруг резко крикнула старуха.
Потом топнула валенком в гневе. Но усилием воли заставила себя остыть. И продолжила умильно, тихо:
– И вот он, перед которым падчерица-то больно хорошо плясала… Этот… – сбилась она вдруг с мысли.
– Ирод? – то ли спросила, то ли подсказала одна из закутанных женщин с готовностью.
Старуха недовольно поморщилась. Потом махнула на неё рукой, досадуя:
– Какой ещё Ирод?!. Не Ирод… Ну, барин этот. И вот барин этот говорит: «Проси чего хочешь!» А падчерицу мать уж с утра самого подучила: «Иоаннову голову проси!» Она и попросила, – глядела старуха на женщин ясным взглядом, исполненным строгого благоговения. – Барин-то – ага: делать нечего…
Кеша хмыкнул. От скуки он принялся громко стучать ботинком о ботинок, сбивая с них уже подтаявший снег. И ещё потопал без всякой на то нужды. Но, затаив дыхание, все три женщины слушали старуху, не сводя с неё глаз.
– А я… – встрепенулся было старичок, взмахнув руками в пуховых вязаных рукавицах..
– Мол-чи!!! …А барину-то делать нечего: он уж посулился. Назад пятками ему идти неохота. Ага… Он слугам-то и сказал: «Ступайте в темницу! Отсеките. И принесите моей падчерице, вот этой вот самой, на золотом блюде. За её пляску, за красоту – отдайте. Она Иоанновой головой навечно владать хочет. Падчерица моя вот эта самая»…
Зевнув, Кеша отошёл к прилавку. И стал разглядывать ценники на бутылках, на коричневых пряниках, на рыбных консервах, тоскливо перебирая в кармане мелочь.
– …Слуги-то и принесли. Мать-то уж больно была довольна. Что дочка её послушалась. И что вы думаете? Прошло уж много время, и какая смерть её, падчерицу баринову, настигла? Плясунью-то?
– А я… – часто замигал старичок редкими ресницами.
– Мол-чи, сказала!!! …Ну, в грех меня вводит – и всё. И как только он мне за целую жизнь надоел!
Обидевшись, она отвернулась от старичка, помолчала. Но возвратилась к своему тихому повествованию, вновь приводя лицо в выражение кроткое и разумное:
– …А эту падчерицу баринову вот какая казня за всё настигла. Пошла она, значит, один раз по лёду. Падчерица. Идёт, идёт она по лёду – и провалилась. И две льдины на неё с двух сторон – как сдвинулись! И с двух сторон ей шейку-то – раз! Голова-то и отсеклася. Как ножницами. По лёду-то и покатилася.
– А я…
– Мол-чи!!! …А барин-то с женой глядят с берега: ну, вот тебе и наплясалась! Навеселилася. Красавица. Туловище-то с ножонками с плясучьими – бултых-бултых в воде. Под лёдом всё. Скрылося. А голова-то молоденькая – как вилок капустный, как кочанчик: катится. К барину под ноги прям. Здрасьте.
– Ну, дер-р-ревня! – не выдержал Кеша. – Ну, каменный век…
Он решительно направился к выходу. Однако приостановился, негодуя.
– Никакой политики здесь в принципе не существует! – разоблачительно выкрикнул Кеша. – Нет ни малейшей тяги к современному знанию! Везде – узость кругозора… Тьфу. Везде дикость невозможная!
– …А барина-то с женой – как наказало, тётка Матрён? – не слышали его женщины и перетаптывались в сильном и нетерпеливом возбуждении. – А им какая же казня за это вышла?
– А как же им казня не выйдет? Вышла! Ещё какая!.. Сперва его за это Господь ума лишил, барина. Свой-то ум у него отобрал, а германский ум ему – вставил. Барин-то и удумал: надо теперь уж всех Иванов с земли согнать, а своим богатым друзьям, нерусским, русскую землю – отписать. «Я, – говорит, – падчерице одну уж голову-то подарил, Иоаннову. А теперь всем своим друзьям остальные, Ивановы, головы налево, направо – раздариваю! Берите их – и владайте ими, как только хотите. Навечно». Пообещался… И распорядился он, чтоб все Иваны голодной смертью, без земли бы своей, перемёрли… Чтоб люди-то сначала за каждый шаг, по земле-то по отобранной, по рублику друзьям бы его платили! Как шаг – так и рупь, как шаг – так и рупь. А если и рублика ни одного уж нет – то чтоб в рабство к ним, к друзьям бы этим, люди шли: долги за каждый свой шажок отрабатывать… И чтоб потом за любую корочку русский бы мужичок им, друзьям бариновым, в пояс кланялся бы только, да приговаривал бы – смирнёхонько да тонёхонько, со слёзкой да с улыбочкой: «Что в рот – то спасибо! Что в рот – то спасибо!»…
– Это ведь за падчерицову головёнку, красивенькую-то, лёдом срезанную, всем Иванам он теперь лютой смертью, до конца времён, будет мстить! – охнула румяная женщина.
Старуха согласно кивнула:
– А как же!.. Народ-то сначала вилы да топоры в руки брать не стал. Поговорил только: «Нам ведь барина-то надо – с русским умом! А не с германским. Ну, может, как-нибудь германского-то этого барина мы перетерпим и своего барина, какого-никакого, дождёмся. А этот, с чужим-то умом, может, как сам подевается куда ни на то!» Да… Плюнул народ на всех бариновых друзей. И подался от них в дали дальние. В глушь забился: в леса да в чащобы, – спокойно выпевала тётка Матрёна. – Молчи!!! …А барину неймётся. И стал он огнём горючим всю землю догола палить – и леса, и чащобы все: людей русских выкуривать стал, чтоб все Иваны как на блюде бы оказалися. Из земли русской – блюдо голое он делать стал! А кой-где плотинами наводненья устраивать велел, чтоб Иванов-то на нет извести и с лица земли народ весь русский – смыть. Чтоб земля ничья бы стала: баринова вся. И он бы с барыней со своей да с друзьями нерусскими по ней бы, по ничьей, на ночь глядя с собачками гулял. И вдоль бы гулял, и поперёк, и наискосок – тоже: с ними.
– Видишь, чего? – догадалась другая женщина. – Одной-то Иоанновой головы ему мало. Это уж, если он во вкус вошёл, то сам – во веки веков не остановится. Ирод.
– Да они же – алкоголики от нашей крови делаются! Оно давно всем известно, – заметила продавщица снисходительно. – Двенадцать, тринадцать. Что барин, что друзья его, они уж без нашей крови не могут, шешнадцать… Жаждают крови нашей – у-у-у, демократы! Мы что, разве не видим? Красноротые все мужики, в телевизоре-то которые, сидят: как насосалися!.. Один. Два. Нет, их теперь только в элтэпэ: от кровяного запоя лечить, упырей этих! Восемь. Девять. Они сами уж от крови русской не отвалятся, пиявки. Пристрастилися! Одиннадцать.