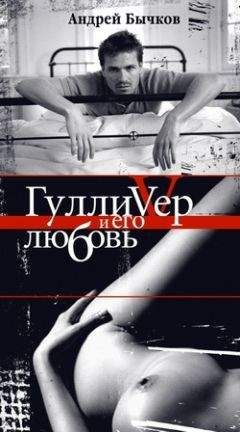Арнольд Цвейг - Затишье
— Скоро явится наша Шехерезада, и вам все равно нужно быть на месте, Понт.
Обсудив текст ответа, они вдвоем составляют телеграмму в Висбаден, которую унтер-офицер Гройлих передаст по прямому проводу:
ВСЕ ПОРЯДКЕ ЗПТ ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЕЕ ПРИСУТСТВИЯ ТЧК РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ ВЕДЕТСЯ НЕУСЫПНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ТЧК ВСЕ ВАЖНОЕ БУДУ СООБЩАТЬ ТЕЛЕГРАФНО ТЧК ПАУЛЬ
— Слава богу, — говорит Понт и исчезает. Не проходит и пятнадцати минут, как он возвращается, но не один, а с писарем Бертином.
Падает снег, и Бертин еще на лестнице снял и отряхнул шинель. Он рад, что господин обер-лейтенант предлагает гостям горячий чай с ромом; это сразу создает такую же уютную обстановку, как вчера. В десять вечера горячий чай пьется с неменьшим удовольствием, чем в десять утра.
— Назад, к Вердену! — восклицает Винфрид, с размаха вытягивает ящик письменного стола и сам вместе со стулом откатывается чуть ли не к стене. — Сюда, солдаты! — командует он, точно на учебном плацу. Затем роется в фотографиях, на которых сняты убитые французы и группы пленных под конвоем немецких ополченцев, идущих с примкнутыми штыками. Наконец находит то, что искал: карты того времени, когда дивизия под командованием фон Лихова занимала высоты на Маасе. Отодвинув подальше оба тома «Войны и мира», Винфрид расправляет на столе карты.
— Дамвиллер, — объявляет он и стучит кончиком карандаша по карте.
Бертин и Понт вплотную подходят к нему. Три солдатских головы, разные по цвету волос и по форме, склоняются над бумагой, заштрихованной серыми линиями. Все трое долго молчат, Бертин учащенно дышит.
— Тринадцать месяцев, — шепчет он. Впервые расстилается перед ним на равнодушном листе бумаги земля, которая до сих пор была воспоминанием, частью прожитой жизни. Винфрид, не выпуская из рук карандаша, минуту что-то ищет. Но вот нашел.
— Сиври, — произносит он, — Консавуа. — Он продолжает водить карандашом. — Отсюда вы пошли на Этре, правильно. А теперь с юга и запада двинулись на фронт. Вот Муарей; здесь. В этом уголке, где проходит дорога на Флаба, к северо-западу от Азана вы побушевали!
Бертин невидящими глазами смотрит на карту, по которой чьей-то рукой проведены синие и красные линии, и медленно говорит:
— Можно такую карту купить? — И, видя, что Винфрид собирается сложить ее, просит: — Нет, пожалуйста, не убирайте!
— Думаю, что майору Мейстеру вряд ли еще понадобится его карта, — отвечает Винфрид. — А вообще, вероятно, где-нибудь да завалялся лишний экземпляр. Я постараюсь разыскать и позволю себе преподнести вам в подарок, Бертин. Попозже, конечно, после того как вы расскажете нам самое главное.
Бертин отвечает с коротким смешком:
— Могу немедленно доставить вам такое удовольствие. По крайней мере в своем воображении нам нет надобности подчиняться тираническому закону причины и следствия. Итак, прошу вас запомнить, что вопреки предсказанию Наумана Бруно я получил четырехдневный отпуск на предмет женитьбы — спустя две недели после успешной «стрижки барана» и тринадцати месяцев, день в день, пребывания в армии, из которых одиннадцать я пробыл на фронте.
— Четыре дня? — повторил, не веря ушам своим, адъютант.
— Так точно, — ответил Бертин, — четыре дня, включая по дню на дорогу из Муарея до Берлина и оттуда галопом назад.
— Черт знает что… — бормочет про себя фельдфебель Понт.
— …для того чтобы предъявить в канцелярии свидетельство о бракосочетании. Надо было во все мои документы внести соответствующие поправки, и тотчас же, понимаете ли, без промедления меня направили — куда бы вы думали? Не на прежнюю работу в зарядной палатке, а в одну из команд, которую из нашей роты отправляли на передовые позиции в расположение артиллерийских батарей. Не знаю, практиковалось ли это когда-нибудь, но мы были подчинены генералу, командовавшему тяжелой артиллерией пятой армии, а это означало всякое, в том числе и то, что нас не подвергали более освидетельствованию, когда повсюду появились «гробокопательные комиссии». Мы, видите ли, считались такими же фронтовиками, как и расчеты стапятидесятимиллиметровых орудий. Затем примите еще во внимание, что нас изъяли из состава сменяющихся армейских корпусов и дивизий; постановили, что мы останемся в трудовом лагере до тех пор, пока немецкая тяжелая артиллерия под Верденом будет в нас нуждаться. Все это время нам предстояло торчать в нашем закутке между Флаба и Муареем. Конечно, французу в любую минуту могло заблагорассудиться выкурить нас оттуда, что он в конце концов и сделал. В высоких сферах нами были очень довольны, однако мы об этом и представления не имели. Глинский, скотина, скрыл от нас все, и если бы у Пане фон Вране нечаянно не вырвалось: «Дух нашей роты — безукоризнен!» — мы бы даже этого комплимента не услышали.
В ту пору, если позволите мне остановиться на некоторых подробностях, нас распределили по трем видам служб. Треть личного состава нашего батальона — а всего нас было четыреста восемьдесят человек — работали в парке. Что там делали эти люди, я расскажу вам потом. Вторая треть снаряжала гильзы в большой, крытой брезентом палатке, а третья распадалась на команды и была подчинена «инструментальному сержанту», как его прозвали у нас. Эти люди выполняли столярные и строительные работы для господ начальников, а часть из них прикомандировывалась непосредственно к батареям. Подносчики доставляли артиллеристам боеприпасы к самым орудиям, а строители укладывали железнодорожные пути, ведущие непосредственно к передовым позициям, изредка менявшим свое местоположение. Были еще команды по сбору дефектных боеприпасов. Со времени последнего освидетельствования в Сербии — а происходило оно в феврале или начале марта — среди нас не осталось ни одного солдата, годного к строевой службе. Мы все были признаны «годными к несению гарнизонной службы», только гарнизон-то наш «случайно» находился в районе огневых позиций сектора Дуомон. По роду службы все перечисленные команды оказались весьма даже годными к несению строевой службы, и это многих из нас возмущало. Хотя немецкий рабочий, казалось бы, удовлетворен правами, которые ему предоставлены, но он требует, чтобы права эти соблюдались самым строгим образом, до последней точки. Малейшее ущемление их он воспринимает как унизительное насилие и не мирится с ним, оно, это ущемление, постоянно грызет его и отравляет всякую радость труда. Представьте себе солдата на месте рабочего, и картина нашего душевного состояния будет вам совершенно ясна. Наши команды постоянно чувствовали себя жертвами злоупотребления: ведь сказано черным по белому, что нестроевики даже в военное время несут гарнизонную службу. На смерть можно послать только безукоризненно здорового человека, очевидно, думали они. Но нет худа без добра: отправка на передовые давала возможность вырваться за колючую проволоку лагеря, за пределы досягаемости холодных, всегда подстерегающих взглядов господина Глинского, и наши нестроевики наравне с ездовыми и орудийной прислугой вдоволь насладились этим преимуществом, а с ним вместе славой и доблестью подлинного солдата, пороховым дымом настоящей войны.
Таков был дух команд, среди которых я вдруг оказался в виде наказания за ту самую бороду. Как я узнал позднее, в штабе моего батальона я прослыл опаснейшим социалистом, — я, ни в чем не повинная доверчивая овца, одетая, как доложено, в защитного цвета шерсть. Очень это было смешно! — И Бертин беззвучно засмеялся. Собеседники молча смотрели на него.
— В то утро усиленная, заново сформированная команда, в которой было несколько унтер-офицеров и ефрейторов, выступала на передовые. Она получила задание извлечь с оставленных позиций две стомиллиметровых пушки. По слухам, дошедшим до нас, позицию эту должна была занять новая батарея — баварцы. К своей досаде, вице-фельдфебель, высланный в качестве квартирмейстера, нашел на месте обе погремушки с разбитыми затворами. Наш сержант Швердтлейн еще в четырнадцатом году получил Железный Крест и потому остался в лагере. Унтер-офицер Бэнне не обладал таковым и поэтому добровольцем вызвался идти с нами. Это был веселый, уже немолодой человек, командир отделения в третьем взводе, — я знал его. Мы выступили чудесным утром, в последних числах июля, кажется.
Положение на переднем крае было нам известно лишь по сводкам. Солдаты первого взвода, из числа которых прежде комплектовались команды для службы вне лагеря, подхватывали на батареях всякие слухи, незначительные подробности — в общем, ничего существенного. Существенное происходило в пехоте, а с ней мы почти никогда не встречались — нам запрещалось посещать солдатские буфеты на фронтовых дорогах; мы знали только, что наши войска не продвигаются вперед, что за каждую пядь земли ведутся отчаянные сражения, что на нашем берегу Мааса почти ничего нельзя сделать, так как форты на противоположной стороне, на Маррском хребте, держат подступы под заградительным огнем и вообще нависли над нами. Что это была за местность, нам лишь предстояло узнать. Взгляд на такую вот карту объяснил бы нам многое. По сербскому походу мы знали, как трудно вести войну в горах; но что война под Верденом разыгрывается среди тесной гряды холмов, в лиственных лесах сырой, пересеченной ручьями долины с заболоченными оврагами и сухими возвышенностями, расположенными одна возле другой и прорезанными Маасом, — это мы почувствовали на себе позднее, когда мы, можно сказать, стали своими в этих бесконечных лесах. Мы — точнее, я.