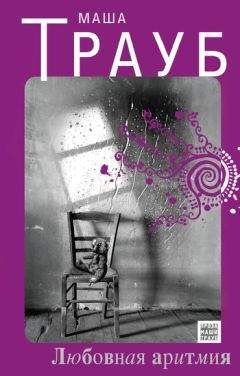Игорь Шнайдерман - Жиденок
Сказавши это, она залезла ко мне под одеяло и засопела.
Наутро нас провожали на автовокзал. Канистра смотрел на меня виноватыми глазами. Когда автобус тронулся, женщины зарыдали.
* * *У хормейстера нашего Ансамбля были длинные изящные пальцы, неуставная шевелюра и нежная фамилия Поляничко.
Когда к нему на прослушивание пришёл боец по фамилии Омельченко, у маэстро, скорее всего, были заложены уши. Я так думаю только потому, что принять в музыкальный коллектив человека, напрочь лишённого музыкального слуха, мог только глухой хормейстер. К тому же, рядовой Омельченко был альбиносом, а его водянистые глаза смотрели в разные стороны.
И вот, артист с таким неожиданным сценическим имиджем был зачислен в Ансамбль песни и пляски.
Поскольку на прослушивании Омеля пел (конечно, с поправкой на временную глухоту Полянички) громко и пронзительно, его определили исполнять партии первых теноров.
На первой же репетиции самый главный первый тенор Тихонравов, услышав Омелину руладу, влепил ему смачный подзатыльник, заявил, что тугоухость заразна и потребовал немедленно его убить.
Тогда артиста хора Омельченко из первых теноров перевели во вторые.
После второй репетиции самый главный второй тенор Стариков сделал заключение, что человеку с такими вокальными данными нужно работать сиреной в пожарной команде.
И Омелю тут же перевели в баритоны.
Когда солист баритонов Олег Зябликов (у которого со слухом, кстати, тоже было не всё «слава Богу») посреди песни «И вновь продолжается бой» свирепо заорал:
— Он меня сбивает! — несчастный альбинос, без чьей-либо подсказки, сам перебрался к басам.
В конце репетиции бас Дмитрий Трофимович Меринец, по-отечески похлопывая Омелю по стриженому затылку, предложил:
— А может ему лучше… плясать?
Народу стало весело. Народ расслабился.
И тут виновник веселья, артистическая карьера которого висела на волоске, лихо всунул в рот четыре пальца и… свистнул. Это было неожиданно. Очень неожиданно.
В обитом зелёным сукном хоровом классе стало тихо. Тогда Омеля вложил в рот шесть пальцев и свистнул ещё раз. Затем во рту побывали восемь пальцев и, наконец, все десять. После этого последнего свиста все присутствующие с опаской посмотрели на Омелины ноги.
Вдохновенный «соловей-разбойник» выкатил белёсыми ресницами свои наивные бесцветные глазки и очень гордо возвестил:
— А ещё я умею… вообще без пальцев!
И свистнул.
…Анатолий Георгиевич Поляничко, мучимый приступом вины, не спал всю ночь. Он думал. Он пытался найти выход из создавшегося положения. К утру хормейстер забылся тревожным сном, и ему, конечно же, приснился артист хора Омельченко, стоящий на сцене в лучах прожекторов и крайне фальшиво высвистывающий романс Алябьева «Соловей».
Поляничко проснулся в холодном поту, но сразу понял, что выход найден.
Так в Ансамбле песни и пляски появился штатный свистун. Почти в каждой песне ему определили место для «сольной партии», и Омеля возликовал.
К началу первых в его жизни гастролей он уже чувствовал себя настоящей звездой. Он разгуливал по Караганде в сопровождении двух наштукатуренных девиц, одетых во врезающиеся в задницу юбки и прозрачные кофточки, расстёгнутые до пупа. После концертов какие-то странные люди брали у него автографы, а в городе Темиртау ему даже предложили быть почётным председателем «общества свистунов».
Омелину артистическую карьеру, как, впрочем, карьеры многих великих людей, сгубили бабы. Да, да, те самые наштукатуренные, в юбках выше ватерлинии, почитательницы его таланта.
Солнечным майским днём они отдыхали на скамейке в скверике в центре Караганды. На плечи одной из девиц был наброшен Омелин форменный китель, другая нахлобучила на крашеные волосы фуражку с кокардой и повязала на шее зелёный солдатский галстук. Омеля сидел в расстёгнутой гимнастёрке, а своими бесстыжими грабками елозил по девичьим ляжкам.
В это время случилось проходить по аллее начальнику Ансамбля Валентину Фёдоровичу Пустовалову. Заметив рядового Омельченко, майор Пустовалов инстинктивно потянул руку к виску, наивно пологая, что солдат немедленно вскочит, чтобы поприветствовать старшего по званию.
Но не тут-то было! Наш свистун осклабился и, похлопывая подружек по упитанным конечностям, неторопливо просвистел:
— А-а-а! Здравствуйте, Валентин Фёдорович!
Рука Пустовалова, по инерции, добралась до виска, и… гуляющие по скверу люди с удивлением увидели, что майор Советской Армии проходит церемониальным маршем мимо развалившегося на скамейке солдата, да ещё и отдаёт ему честь.
Когда Валентин Фёдорович понял свою оплошность, было уже поздно. Кроме того, чисто по-человечески, ему не хотелось ломать Омелин кайф. Но он оскорбился. Он очень оскорбился и рассказал о происшедшем лейтенанту Григорову. Лейтенант Григоров рассказал старшине Боднару. Старшина Боднар рассказал нам. Мы приняли меры.
Мы не били своего товарища по оружию. Мы только припугнули его. Но припугнули сильно. Настолько сильно, что Омеля с испугу прикусил себе язык. Прикусил в физическом смысле…
Оборвались все струны на скрипке Паганини!
Крышка рояля прищемила руки гениального Листа!
У Орфея отобрали его кифару!
Перед вечерним концертом мастер художественного свиста с прикушенным языком подошёл к хормейстеру и сказал, что свистеть он не может, потому что к нему не пришло вдохновение и, наверное, уже не придёт никогда.
До конца гастролей Омеля вёл затворнический образ жизни. Он как-то углубился в себя, и кто-то из артистов даже видел его читающим «Устав гарнизонной и караульной службы». Пару раз его, правда, навещали подруги, из-за которых он «погорел», но, как сообщал всё тот же информированный источник, после второго посещения они выходили от затворника, неся подмышкой брошюрку под названием «Их нравы и наша Нравственность».
До и после концертов Омеля с повышенным энтузиазмом грузил ящики с костюмами и реквизитом, во время работы был услужлив и вёл себя безупречно.
По возвращении с гастролей снова чёрным вороном завис вопрос об Омелином пребывании в Ансамбле.
…Открытый худсовет заседал в танцевальном классе. Когда начальник открыл рот для оглашения печального приговора, непредсказуемый рядовой Омельченко вдруг вскочил и, притоптывая ногами по скрипучему полу, радостно закричал:
— Я не понимаю, как тут можно танцевать!?
Валентин Фёдорович запнулся, а балетмейстер Гриша Шеремет отчаянно замахал руками и срывающимся картавым голосом запротестовал:
— Не-ет! Даже не мечтай! В балетной ггуппе и так пегебог!
Омеля, не обращая внимания на Гришу и продолжая выбивать неуклюжую чечётку, вдохновенно объяснял:
— Я ж, ёлы-палы, плотник! Паркетчик я! Я ж вам могу так полы постелить, что вы сразу станете народными артистами!
Не знаю, какой из аргументов убедил начальство, но свистуна-паркетчика оставили в Ансамбле стелить полы. Он переложил паркет во всех классах.
В редкие моменты, когда никого не было рядом, Омеля позволял себе немного посвистеть. А один раз в приоткрытую дверь я увидел, как у него, насвистывающего какую-то песенку, из косых осоловевших глаз капали слёзы умиления.
Он был счастлив.
* * *— Ну, совсем как дитё!
То ли упрёк, то ли похвала
Слово «мутация» в Большом Энциклопедическом Словаре трактуется как «резкое понижение голоса подростков вследствие роста гортани». Эта пресловутая мутация на корню зарубила мою певческую карьеру, когда я солировал в детском хоре «Жаворонок» Дворца Культуры работников связи. Кроме меня, все остальные хористы в этом «Жаворонке» были девочками. Ровно год я купался в море косичек и ленточек, пока не подкралась мутация и не превратила мой звонкий дискант в баритон.
Партию которого я и исполнял в Ансамбле песни и пляски Советской Армии.
У моего наставника — премьера баритонов Олега Зябликова — была лужёная глотка. Песни он не пел, а орал. Если бы при этом у него был ещё и музыкальный слух, он вполне мог бы работать муэдзином в какой-нибудь мечети. Его агрессивный вокал пребывал в ужасающем противоречии с его натурой. Он ходил, как полуторагодовалый ребёнок, и казалось, что он вот-вот упадёт. Когда он пел, раскачиваясь взад-вперёд с безумной амплитудой, казалось, что вот-вот упадёт микрофонная стойка. Он выступал в гигантских размеров фуражке, которую зачем-то натягивал на уши и на брови. На носу он носил очки с немыслимым количеством диоптрий, а подвёрнутую вверх губу прикрывал тараканьими усиками.
У нас с Зябликовым был очень своеобразный творческий тандем: во время концертов я обычно стоял чуть сзади и пел баритоновую партию прямо ему в ухо. А он уж её как бы озвучивал.
Настоящим мучением были для близорукого премьера репетиции. Ноты он видел плохо, а поворачивать к нему голову во время распевок начальник Ансамбля не позволял. Зябликов фальшивил, злился на весь мир, заворачивал ладошками ушки, чтобы лучше себя слышать, но пел всё что угодно, кроме того, что было написано в партитуре.