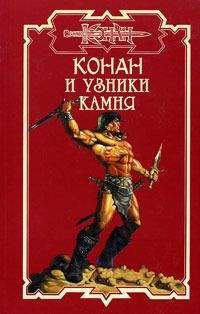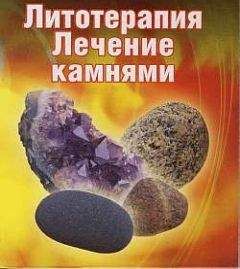Владимир Личутин - Беглец из рая
А какой от меня толк, если весь я испротух в постелях, изжижнул, как прокисший окунь. Короче, не в коня корм, не по байбаку царь-девица.
А корить себя – ой сладко, аж слезу из самого сердечного нутра вышибает и, глядя искоса на снующую Марьюшку, того пуще жаль себя, почти младеню, укутанного в цветное лоскутное одеяло и ждущего от мамки коровьего рожка с молоком иль хлебную жамку. Вот уже в кулек, в конверт из простыни вместился я, и в губах пузырится, понявгивает испротертая резиновая пустышка.
Нет, всякий рождается в мир по Божьему дозволению, по отцову радению. Вот Семен Могутин, бывало, ествяный был, нажористый, мог сразу телячью голову смолотить и все кишки от убоины: сварит и съест да еще к котлу притирается, нельзя ли чего в одоньях заскрести. Председатель, как приедет на сенокос, то обязательно смеряет ему загривок клеенчатым сантиметром. «Посмотрим, скажет, как ты, Семен Иванович, раздался и поздоровел». Но зато Могутин мог сметать за светлое время дня зарод в двенадцать промежков, лошади не успевали копны подвозить...
Но, может, совсем зря ты себя мутызгаешь, может, и ты к чему-то призван на свет, Павел Петрович Хромушин? Ведь не бывает для Господа лишних людей: добрые пригождаются в работу, дурные – в назидание и остерег. Как не бывает лишних слов: только в одних устах они бездельные, а в других – врачующие.
И что от Могутина осталось? Печь в пол-избы да крест в Полтонны. А от меня – кипа бесхозных бумаг, раскиданных по белу свету, и портретик на стене школьного коридора в родной Нюхче.
– Пашенька, занеси самовар на стол, помоги старухе, вижу, не дождаться к столу, – попросила мать.
6
Не успел с дивана сняться, как явилась соседка, принесла молоко. Вошла, как водится, не спросясь. Крохотными, глубоко посаженными глазками обвела избу, остановила суровый взгляд на мне. На голове кожаная шапенка, сама ростом в сажню, в дверь едва влезла. Низким голосом, притаивая добрую издевку, спросила вроде бы спокойно, но занавески на окне всколыхались:
– Ты чего, колчушка, лежишь? Иль яйки паришь? Ой, Стяпановна, до каких пор ты будешь сына поваживать. Засохнет в бобылях. Все скиснет, а чем унука для тебя ковырять?
– Какой там унук, – махнула рукой Марьюшка. – Ты, Анна, чего кричишь, как на тот берег перевозу. Я, чай, не глухая.
– Говоря такая... А ну, вставай, лежень! – приказала. – А то сейчас дубьем. Ночью у него все окна горят... Только деньгам перевод. Днем думать надо. Ночью – черные мысли, днем – светлые. – Не чинясь, сдернула одеяло, ткнула дресвяным пальцем в мою тощую интеллигентскую грудь, едва помеченную ржавым волосьем, игриво ущипнула под пупком. – А ну подвинься, лодарь, сейчас деток делать будем.
– Какие тебе детки, Анна Тихоновна. Поди, все уже повырезано и веретенкой зашито. Только добру один перевод.
– Куда ли еще сгодится парничок, – стеснительно кинулась в защиту Марьюшка и торопливо набросила на меня одеяло.
– А ты, Стяпановна, и неуж не знала? Нынче мужики... долой их, на свалку, да. Готового ребенка бабе в родилку вставят. До мизинца в трехлитровой банке выкормят, а после и всадят, скажут: носи, бабка, дите... Вот мне наснилось нынче от горей, что будто я тройню принесла, как котят. Я и заплакала. Ой, куда с има старой-то? – Старуха отвернулась от меня, свирепо уставилась на стопу шанег и пирогов, возле которых недавно увивалась мышь-домовушка. Подхватила от печи самовар, с пристуком выставила его на стол подле стряпни, даже не сняв с конфорки заварника. Бедная Марьюшка и охнуть не успела.
– Так ты, гостьюшка, садись, – по-северному, с протягом, выпела мать. – Праздничное кушать будем.
– А что, и сяду. Почто не сесть. С четырех на ногах. Скотину обрядила и бегом в Тюрвищи попроведать мужнего брата. Сын Гришка на днях вернулся. Это он, гопник, ко всякому слову: раньше сядешь – раньше выйдешь. Э-э, тюрьма научит. – Старуха вздохнула, придвинула к себе чашку с цветочками, посудинка исчезла под ее бурой ладонью, как цыплак. Шаньгу съела в два прикуса, чай выхлебнула и тут же опрокинула чашку верх донцем. – Да... Ехал Тришка на машине. Шоферюга он. Подобрал по дороге тетку и снасилил. Сам-то писаной красавец, но горький пьяница. С малых лет запил, да. Ну, пять лет отсидел. Вот, значит, снова сел за руль, поехал, подобрал по дороге бабу с ребенком в кабину. В дороге девчушку-то ссадил, а бабу снасилил. Только неделю и гулял, милок. И снова на шесть лет загремел. Сам-от, хозяин, «самовар». Пил, курил. Врачи говорят: брось курить, ноги отрежем. Ну, отняли ноги. Мать не снесла горей, этой весной скончалась. А до меня слух-от... Это он, Гришка из Тюрвищ, нынче ночью у нас галил. Его бы в больнице проверить. Может, шарик – за ролик. А он на свободе... Дошла до кладбища, сидит Гриша под забором, плачет. А еще раным-рано. Я у него: «Гришенька, чего плачешь?» А он мне: «Маму жалко». Я ему: «Раньше надо было жалеть». И пошла, не стала припирать. Плачет дак. Душа, значит, есть. Маму, говорит, жалко. Эх, дуралей, дуралей. И мой такой же...
– От вина плачет, – рассудила Марьюшка. Она люто недолюбливает пьяниц. – За водку черт церкву ломал.
– Может, и от вина...
Я неприметно выскользнул из постели, скоренько оделся и присоседился с дальнего краю стола на низком диване, почти спрятавшись за самовар.
Но от моей Марьюшки никуда не деться... Она не то чтобы пасет меня иль досаждает упрямым досмотром, не дает шагу ступить, но своими блеклыми глазенками словно провожает каждое мое движение, боясь, что вновь оступлюсь, снова попаду впросак иль в неприятную историю, что сопровождают меня с детских лет. Помню, как отлучился от матери всего-то на неделю к деду в Занюхчу. Надо было лишь через реку переехать. Заскочил в дырявую лодчонку и тут же пошел ко дну, едва спасли. Побежал играть, где на задах деревни стояла сломанная молотилка. Крутнул ручку, сунул палец в привод и едва выдернул. И не просто сломал, но размичкал в месиво. Столько и гостился у деда. Скорехонько меня в больницу, палец залечили, но неудачно. Сломали заново. Вроде бы срастили, все ладом, сгибается. Прощался с врачом и на радостях так пожал тому руку, что все лечение пошло прахом. Макушку указательного пальца отчекрыжили. Хорошо – на левой руке, стрелять не мешает... Потом три раза тонул, один раз угодил под плитку бревен, однажды засыпало в песчаной берлоге, которую сам же и вырыл, как-то заблудился, искали неделю... Потом прыщи высыпали по телу. Не хотенчики на лбу, как водится у созревающего вьюноши, а натуральные вулканы. Отправили в лепрозорий, думали – проказа. Это когда в Вологде в институте учился. Два месяца откантовался – никакая зараза не пристала. Был случай ужасный: с одним «проказником» поздоровался, у того рука отвалилась совсем.
Ну, решил здоровьем вплотную заняться: умные люди сказали, что прыщи от застоя крови, что надо больше двигаться. Надо бы с бабой закрутить, там вон какой разгон, а я, дурак, решил бегать трусцой. Все тогда бегали, ну и я побежал. Однажды запнулся на ровном месте, упал, грешный, и выбил ногу. Ну пустяк же, верно? Гипс, шины, две недели отвалялся – и гуляй, Паша. Дело молодое. А у меня отозвалось: нога стала как плеть. Поехал к Елизарову, тот мне вытянул ногу и укрепил. Хорошо, что левая. Через год вернулся к хирургу на осмотр, решил похвастать, говорю врачу: де, смотрите, профессор, как я бегаю. Заковылял и упал. Для меня – горе, а со стороны – смех и грех. Опять на полгода в койку. Двух сантиметров не дотянул Елизаров до нормы. Приезжай, говорит, еще будем стараться. А я плюнул и больше не поехал. Мне девчонка одна сказала: главное для мужика не красота, а ум... И вот теперь я – «колчушка», как говорит бабка Анна, косоногий, хромуша. И ведь как нагадано было самой фамилией: носить мне эту примету, не износить до конца дней... И разве нет в моей судьбе логической системы? В самой фамилии заложен изъян, сбой. Мог бы не телом, так душою охрометь, головою, судьбою. Дескать, зачем хранить совесть и честь, коли один раз топчем землю. Хватай, что плохо лежит, жми в горсти, закатывай ближнему салазки, рви чужой кусок изо рта, беги в райские Палестины, за бугор, где на каждом дереве возле кисельных рек висят плюшки сдобные и гнутые кренделя.
Господи, да как же ты подфартил мне, как же вовремя подставил ногу, что я, горячий и уросливый, брякнулся рылом оземь и вдруг очнулся от своеволия и гордыни и; «уковечившись» однажды, попустил душу свою для совести и жалости. Вот и слух обо мне по Руси великой, что душевед я. Да никакой не душевед, а маленький человеченко, раненный совестью... Если бы я стал писателем и впустил эту фразу в роман, то всякий умный книгочей сказал бы: «Ты, Хромушин, – графоман».
– Павлуша, ты чего вскочил? – Марьюшка сделала вид, что только заметила меня. – Поспал бы еще, коли душа просит. Иному-то страсть как хочется поспать, да глаз не может затворить... Он ведь у меня умственный, – похвалилась Марьюшка товарке.
– На том свете выспится. Не велик барин, – сурово отрезала Анна и, потянувшись над столом, узрела меня медвежеватыми глазками. Лицо в тяжелых дольных складках помягчело то ли от чая, то ли от простой бесхитростной беседы, когда вроде бы и зряшно убивается время, но и телом отдыхает старая, и жизнь вдруг наполняется смыслом.