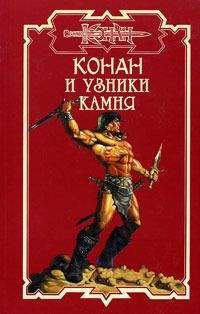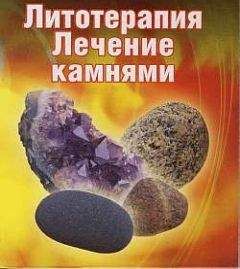Владимир Личутин - Беглец из рая
Однако сколько слизи в нашей душе, сколько неясного переменчивого... Отринутые от живой природы, мы поистратили искренность чувств. В нас, интеллигенции, скрывается порча, и даже не просто порча, кою можно залечить таблетками, но воинствующая порча, а значит, мы – порчельщики рода человеческого, и все из-за самолюбия, гордыни, кичливости и тщеславного любопытства. Сколько греха, какое скопище гноя, настоящий содом в душе. Только попустили, разрешили писать в книгах что хочешь, открыли со двора ворота на вольные луга, и столько грязи полилось, разврата и пошлости, чего не знавал весь предыдущий мир. И чего бы хорошего, так нет! Я худой, так и вы станьте скотами, и вы извратитесь до конца, падите вместе со мною на самое дно, в бездну, откуда уже не подняться. «Слепой слепого аще сведет в яму...» И каким же добрым словом прикажете называться?.. Мы не только развратители, но мы – порчельщики.
Мы не любим свой народ, презираем его и оттого хотим переделать, подогнать под свои безумные химеры, а народ отчего-то не покупается на них, не отвергает природное чувство и потому в своем упрямстве особенно плох для нас, хотя и противостоит нам из последних сил и молит о жалости...
Мысли гонят сон, дают мозгам какого-то бунтующего опоя, отчего долго бродишь умом по заведенному кругу, как лошадь на вязке, не в силах обуздать или вовсе оборвать надоедливый образ.
В размышлениях я забылся уже под утро, и в этом коротком плотном сне, как в наказание, привиделся мне коренастый, заросший бородою мужик с блескучим широким ножом, каким мясники на рынке разделывают скотские туши. Я упорно оборонялся от него табуреткой, а тот наседал и вдруг с силою всадил лезо в сидюльку, так что прошил ее насквозь, внезапно отступился от меня и медленно пошел прочь в длинный пустой коридор, часто оборачиваясь, будто приглашая за собою. Потом остановился и, грубо регоча, стал добывать отовсюду ножи, будто фокусник: из носков, из карманов брюк, из-за шиворота, из лохматого смоляного волосья, а напоследок выдернул из-за опояски громадный сверкающий секач с окровавленным острием...
И тут я проснулся.
* * *Это в городе дни быстротечны, ибо человек выпал из природного круга, и сгорают они, как березовая лучина над корытцем, потрескивая и роняя в воду огарки и красноватые рассыпчатые искры.
А в деревне для горожанина дни тянутся долго, как бы заключая в себе целую жизнь, они ткутся несуетно, как пряжа, со своими узелками, шершавинами и шерстяными залипами от неловких старческих пальцев, потиху свиваются на веретено в клубок, но имеют видимый зачин и венец. Городские, попав в деревню, сильно страдают, что день такой бесконечно длинный и некуда себя деть. В этом празднике жизни, уготованном Господом, они видят лишь тризну себе. Несчастные, бежав из деревни, они угодили в добровольный тесный хомут, из которого высвободит лишь сыра земля. Крестьяне же день уходящий жалеют, что он так быстро прикончился и не все еще дела исполнены.
Легкий ветерок колыхал занавески и щекотал мое лицо, сквозь плотно сомкнутые веки проникал в мое окостеневшее во сне естество и полировал загустевшую кровь, умножая красные тельца радости. Так, наверное, и начинается пробуждение человека, который в полном здравии. Невесомая пуховинка света мазнула по лбу и внутри головы, где-то в затылке вдруг щелкнул рычажок «чик-чик» (я так и услышал этот звук переключателя), и тебя, словно бы замкнутого в саркофаг, медленно, плавно выкатывают из Зазеркалья, не имеющего видимых рубежей, и кто-то с неохотою отодвигает крышку с твоей колоды. И в это мгновение понимаешь вдруг, что ты снова воскрес, твое общение с миром мертвых прервано, тебя вернули солнцу. И вот та тоска, печаль от неопределенного положения, мой сердечный раздрай меж городом и деревней и переживались мною так глубоко и страдательно именно на той границе, когда я еще не выпал полностью из забытья, а значит, жил на рубеже яви и нави. И мысли, что рождаются в этот короткий миг, кажутся удивительно глубокими, как бы нашептанными самим Богом... Я пробовал их записывать по пробуждении, но они оказывались обычной блажью, корявыми и вычурными, лишенными страсти.
Я не открывал глаз, но по шелесту занавесок над головою легко догадался, что далеко не утро на дворе. Обряжаясь, Марьюшка нарочно оставила дверь полой, чтобы не мешать мне спать, бредя во двор; из темных сеней поддувало сквозняком, с шорохом парусил полотняный серый покровец, натянутый на проем от комаров.
Марьюшка кашлянула сдавленно, боясь и тут досадить, заелозила кочергою в печи, сгребая живые уголья на загнеток. Скрипя, потянулся на шесток щаный горшок, звякнула крышка, мясной парок выпорхнул на волю и окончательно погнал меня из сонных нетей. Но я знал, что Марьюшка меня напрасно не похулит за безделье, она и здесь для сына сердечных капелек сыщет, чтобы снять ночную хмарь. Ведь человек должен подыматься из постели с веселой песнею, с праздником в груди, а ложиться спать с покаянною молитвой.
Навряд ли знала Марьюшка о моем пробуждении, а то бы хватила валяным отопком по костлявой заднице, выпирающей из лоскутного одеяла, и, устав ждать утреннего чая, заверещала бы с придыхом: «Ну-ка лежебоку с Пашиной хребтинки я прочь погоню. Ишь ли, спать мешает, злодей. – И еще хлобысь мягкой калишкой вдогон. – Ну побежал, эко потрусил! А ты спи, мое богоданное, пуще, спи-почивай мое богачество... Кто рано вставает, тот злыдня встречает, а кто поздно вставает, тот таланту дожидает...»
А солнце-то, поди, уже на гребень крыши закатилось и вот-вот свалится на запад, и его прощальный душегрейный луч, оскальзываясь о покать принахмуренного неба, вместе с запашистым ветерком западает и в мое бобылье оконце, теребит склеившиеся рыжеватые реснички, умягчает обочья. Что-то мягкое, обволакивающее, так похожее на бабью ласку, вдруг теребит, оживляет мое естество от макушки до пят, и я обретаю слух особый, какой-то чувственный и тонкий, который тут же и умрет, как только я коснусь ступнями пола. Наверное, в эти минуты уши особенно отворены для Бога, а глаза для слезы.
Я чуть расщемил веки, чтобы не выдать матери своего пробуждения, и увидел склоненную над столом Марьюшку, ее кособокое, сухопарое тельце, покрытое коричневым старушечьим платьицем, ее зависшую корявую ладонь с просторной морщиноватой кожею. Я осторожно сдвинул взгляд влево. Около круглого блюда со вчерашней стряпнёю стояла на цыпочках, как балерина, крохотная мышка, вцепившись коготками в зажарный край шаньги, а над нею нависла матушкина длань: узловатые пальцы были сложены в щепоть, словно бы Марьюшка норовила ухватить домовушку за шерстяной серенький загривок. Старуха рассматривала бесстрашную скотинешку с таким любопытством, с таким интересом, будто век не прожила, и голос ее, тончавый, переливистый, приобрел умильную слезливость:
– Эка ты малеханна, голубушка, да сколь хорошаща. И ведь тоже ись хочет, божья тварь. И неужели я тебя убивать стану? Пусть тебя кошка ловит, на себя грех берет.
Котяня, безмятежно и грузно лежавший у меня в ногах, лишь бестрепетно повел ухом.
– Да гони ты эту касть, – не сдержавшись, подал я голос, хриплый от сна.
Но Марьюшка не удивилась и, не глядя в мою сторону, назидательно ответила:
– Мыши-то маленьки ни в чем не виноваты. Люди во всем виноваты.
– А в чем люди по-твоему виноваты?
– А в том, что все испакостили и никому житья не дают...
Мышка тем временем проструила по дивану и юркнула в расщелинку над подоконьем, как бы растворилась в пазу средь рыжих волоконцев мха. Вот тварюшки действительно в нитку утянутся, чтобы спастись. Дальнейшего разговора я не затевал. У печки гнусаво пел самовар, пускал фистулы, на конфорке гордовато высился заварной чайничек с приобколотым носиком.
– Чай-то весь простыл. Вставай, если время грянуло. Я тебя, сынок, не тороплю: спи, коли хошь. «Кто поздно вставает, тому Бог таланту давает». Мало тебе таланту, так ложись заново, только чаю испей. У меня терпежу уже нет. Ужас, как чаю хочется...
И делает Марьюшка вид, дескать, живи по своей причуде, но ведь сама неволит. Да так неволит, что ослушаться – грех и сплошное расстройство. А как сладко потянуться в постели, сделать потягушеньки да и снова замереть, потом потереть пятку о пятку, поелозить ножонками, повытягивать хребтину, напружить руки и квелую «нероботь». Нет, все-таки я конченый человек, от плохого племени не будет и годного семени, доброго приплоду. Где конь валяется, там и шерсть оставается, а по мне – одна лень да стень.
Прежний-то хозяйственный мужик к этому часу уже до поту наломается на подворье, в поле иль в лесу, да после, придя к столу, каши горшок смолотит, да ладку рыбы с «однорушным» ржаным ломтем или сковородку саламаты на свином сале, да ковшиком ядреного кваса отлакирует и, скрутив козью ногу с самоварную трубу, осоловело глядя с лавки-коника в окно, завесившись дымным чадом, на какую-то минуту уйдет в себя, погрузится в сытую дремную утробу, напрочь забыв о душе, а измусолив цигарку, встряхнется, как лошадь от налипшего оводья, да тут же картуз в руки и снова – в нескончаемую крестьянскую работу. Солнце катится по кругу, вот и ты, христовенький, поспевай за ним, не отставай от благословенного...