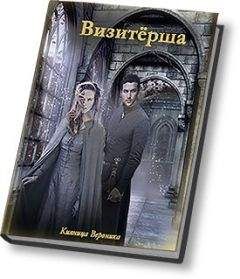Вероника Черных - Икона
– Я тоже, – поддакнул Корпусов. – Душу изморозь берёт, до того она страшно кричала. Век не забуду.
– И я. Прощай, Песчанов, встретимся ещё.
– Встретимся, – пробормотал Георгий.
Оставшись один, он долго ещё стоял в тишине позднего утра и думал о криках Веры. Вздрогнул, когда кто-то легонько тронул его за локоть. Обернулся – бабка стоит какая-то и умоляюще мигает серыми глазами.
– Миленький, – говорит тихо, – я издалече приехала, услыхав про чудо Божие. Но вправду это или нет? Стоит Вера? Не выдумки это? Скажи хоть слово, сыночек!
Георгий заколебался. Но бабка глядела хоть и кротко, но так неотступно, будто от слов его зависела её судьба, что он отбросил сомнения, принагнулся к ней и сказал дрогнувшим голосом:
– Стоит девушка, бабуля, как статуя живая стоит. Больше сказать не имею права, потому как подписку давал о неразглашении. Понимаешь? Веришь, не веришь: на мою голову посмотри.
И он сдёрнул шапку. Волосы белели в темноте январского утра. Старая богомолка не сдержалась, ахнула, губы варежкой прикрыла.
– Так-то, – серьёзно произнёс Георгий Песчанов, седой, будто древний старик.
Бабушка заплакала. Слёзы мёрзли на морщинистых щеках. Георгий надел шапку, попросил:
– Ты обо мне помолись, а? Георгий я.
И зашагал домой, где его ждала жена Анна, работавшая в прачечной во вторую смену, маленькая дочка Валечка и мать жены, бывшая медсестра, ушедшая на пенсию и нянчившая внучку.
Песчановы жили в многоквартирном доме. Георгий отыскал свои окна. На кухне горел свет, и он обрадовался: ждёт! Эта радость согрела его, и впервые он подумал о Вере Карандеевой без страха – просто с волнением, рождённым необыкновенным открытием: Бог существует, и Он среди нас.
Георгий взлетел на третий этаж и своим ключом открыл дверь. Потянуло аппетитным запахом варёной картошки. Небось, и маслица чуток туда добавила!
Аня, заслышав лёгкий стук входной двери, помчалась в коридор и обняла мужа.
– У, холодный! – весело прошептала она. – Раздевайся давай и завтракать! А потом спать! Валюшку я сегодня дома оставила, в садик не повела. Пусть погреется, а то что-то закашляла. Ты не против? Устал же...
– Ничего, всё нормально, я не против, – прошептал Георгий.
Выглянула его мама, Леонтия Гавриловна, прикрыла в комнату дверь.
– Гош, чего не раздеваешься?
Сын глубоко вздохнул и ответил:
– Аннечка, скоро литургия в Покровском храме начнётся.
Аня непонимающе нахмурилась:
– И что?
– Сходи туда... или в этот... Веры, Надежды и Любови.
– Зачем это?
– Икону купить.
Жена остолбенела.
– Чего купить? Икону? Зачем это? Какую икону?
– Николая Угодника купи, – назвал Георгий. – И ещё... знаешь... подай там записку о здравии. Мы ж все, вроде, тайно крещёные. А, мам?
Леонтия Гавриловна кивнула, медленно расцветая от радости.
– Крещёные, Гоша, крещёные. И крестики нательные сохранила, спрятала. Только... что случилось-то с тобой, Гош?
– Ну, мам... Нельзя нам разглашать...
– Что значит – нельзя? Это ж тебе не военная тайна! – возразила Леонтия Гавриловна. – Думаю, Родине ты не изменишь, если расскажешь, что такое могло с тобой приключиться, что ты в храм к Богу побежал?
– Ну, мам...
– Георгий!
И тогда он сорвал с себя шапку и обнажил седую голову. Женщины ахнули.
– Гоша... Что случилось?! Это случилось во время дежурства?! – воскликнула Леонтия Гавриловна, забыв, что в соседней комнате спит маленькая Валечка.
– Девушка одна с иконой пошла танцевать, – сдался Георгий.
– Николая Угодника, что ль? – догадалась мать.
– Ну, да.
– Кощунница какая...
– И окаменела. Как есть, каменная, тронешь её – а она холодная и твёрдая. И само платье твёрдое! Икону в руках держит, вцепилась в неё, будто... ну, как будто в плот на бурной реке. Никому не даёт. Глаза открыты, а не моргают! Жутко! А нынче ночью она закричала. Да как! Во всё горло! На улице слыхать было! Толпа собралась. Кричала, что молиться надо, иначе погибнем все. Там я и поседел. Всё от того, что увидел...
Жена и мать молчали. Потом переглянулись. Леонтия Гавриловна решительно сказала:
– Я пойду. А вы тут с Валечкой. Гош, отдыхай пока.
– Если смогу, – невесело обещал тот и, раздевшись, побрёл сперва ополоснуться в душе, а затем завтракать.
После его сморило. Перед тем, как заснуть, он потребовал у матери свой нательный крестик, присмотрелся к нему, надел на шею.
Радостная и взволнованная, Леонтия Гавриловна перекрестила его, собралась и поспешила в церковь. Выбежала в светлеющий мир и остановилась: куда бежать? Может, сперва к тому дому, где, по словам Гошеньки, чудо Божие явилось? Явилось ли? Не пошутил, не выдумал? Только что ж она не спросила, где чудо произошло. Леонтия Гавриловна растерялась, затопталась на месте. О, слава Богу! Послал ей навстречу знакомую – тоже старушку; изредка примечала её в Покровском храме. Шла знакомая тихо, руки прижимала к груди, будто к причастию подходила: крест накрест, правая на левой. Лицо задумчивое, а в глазах огонь горит. Как в сказках!
– Анна Федотовна, мир дому твоему! – остановила её Леонтия Гавриловна.
– Ой, здравствуй, Лёнечка! – очнулась та.
– Ты чего такая? Куда идёшь?
– А иду, куда глаза глядят. С Волобуевской иду.
– А что там, на Волобуевской?
– Девушка окаменела.
Леонтия Гавриловна воспряла духом: нашла!
– И что, сама видела? – принялась она допытываться.
– Что ты! Вокруг дома толпа, туда не пускают, а по улицам на пару кварталов милицейское оцепление!.. Но, кто в толпе стоял, говорят, крики её слышали и силуэт через занавески видали.
– Схожу-ка, посмотрю, – решила Леонтия Гавриловна.
Анна Федотовна ласково, но отрешённо улыбнулась:
– Сходи, сходи, посмотри, радость моя, Фома неверующая. А мне такого чуда по гроб жизни хватит, чтоб не усомниться и за веру Христову пострадать, ежели сподоблюсь.
Расстались. Анна Федотовна к себе в деревеньку, за пятнадцать километров от Чекалина, пешочком направилась, а Леонтия Гавриловна – на улицу Волобуева. Любопытство и вихрь надежды, ожидание чуда Божьего, предчувствие необыкновенной радости переполняли её и несли по заснеженной дороге, как на санках.
Но до сорок шестого дома ей дойти не удалось: всё больше попадалось людей, идущих туда же, куда Леонтия Гавриловна, стоящих кучками, будто во время ноябрьской демонстрации. Чем ближе к странному дому, тем гуще народу.
А потом раз – и милиция конная и пешая. Непроницаемые лица, суровые раздражённые голоса. А в очах-то – Боже, спаси и сохрани! – страх и смятение. У некоторых даже мысли проглядыали, и сразу видно, что непривычные.
Леонтия Гавриловна стояла среди таких же любопытствующих, как и она, тихонько спрашивала, и ей отвечали теми же словами, что и сын, и Анна Федотовна говорили: танцевала с иконой, окаменела, стоит, кричит, каяться призывает.
«Пора каяться, пора, – шептались в толпе. – Забыли Бога, царя убили со всем семейством, попов сгноили, церкви повзрывали, святые мощи и иконы в музейные подвалы запрятали... А Бог-то всё видит, всё ведает. Показывает Себя, к Себе зовёт. Как не пойти?».
Кто-то сомневался, не в силах перебороть посаженный и взращённый атеизм: правда ли? Наверное, ничего и нет, просто слухи, попами выдуманные. Им возражали: коли б не было ничего, коли б Вера не стояла, вросши в пол, хватаясь за икону святителя, будто за соломинку в бурной реке, то не ходили б комсомольцы, не убеждали, что, мол, там были и ничего не видали, то б не стоял милицейский заслон.
Стоит Вера. С полом срослась, не отодрать, не отбить, не отколоть, не обрубить топором. Стоит та, на которой явлена сила Божия, и, живая, в аду горит. Такое не спрячешь, разве дом взорвать иль по брёвнышку снести. Но взорвёшь, снесёшь, и тем удостоверишь царствие правды. По головке не погладят. Под расстрел тут же.
Шептались люди.
И шептались ещё: посмотреть бы на каменную девушку хоть в щёлочку, хоть в дырочку, чтоб до смерти помнить сие свидетельство о Боге, чтоб душу свою на алтарь веры принесть, чтоб душу свою сберечь, благоговением омыть и любовью запечатлеть.
Изголодались русские люди по Богу. В Великую Отечественную войну о Нём вспомнили, а затем народ снова заставили Его отвергнуть.
Правитель Хрущёв зубами скрипит, ножищами, как копытами, бьёт, чуть ли не хвостом крутит, до того ему всякое упоминание о Творце нашем костью глотку колет. Скоро озвучит на съезде свою мечту показать советскому народу в восьмидесятом году последнего-распоследнего попа, и последнюю-распоследнюю церковь в склад превратить.
И вот, во время таких гонений – такое несомненное доказательство существования Великой Созидательной Милосердной Силы – Бога! Разве ж позволят ему советские власти запомниться в душах людей, насильно лишаемых воли, чтобы быть послушными, закованными в идеологические латы рабами безумного прожекта – коммунизма? Конечно, нет.