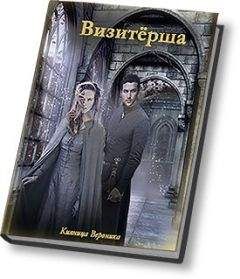Вероника Черных - Икона
– Понятно.
Отец Иона чуть склонил седовласую голову.
– Чтоб голословным обманщиком не стать, – мягко, терпеливо произнёс он, – позвольте, я схожу к Вере, дабы воочию убедиться в правоте власти. Тогда я смогу поведать людям правду и никого не обману.
Рэм Хотяшев призадумался.
– Это не в моей компетенции – разрешать вам туда ходить, или не разрешать. Доложу и, когда примут решение, позвоню. ясно?
– Ясно, Рэм Кузьмич.
Хотяшев достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо листок, развернул, протянул священнику.
– Распишись, Илиодор Карпович, что предупреждён.
Отец Иона молча взял у него бумагу, подошёл к стойке, где продавались свечи и принимались записочки о здравии и упокоении, взял перьевую ручку, окунул в непроливашку, расписался мокрым острым кончиком. Хотяшев забрал документ, подул на подпись, сложил и убрал поближе к сердцу.
– Ну, до завтра, Илиодор Карпович. В восемь начинаешь?
– В девять.
Рэм Кузьмич бросил последний взгляд на убранство храма, усмехнулся, надел на голову шапку и вышел.
Отец Иона помедлил. Постучал пальцами по стойке. Повернулся к Царским Вратам. прошептал, перекрестясь:
– Господи Боже мой, не оставь меня в годину лютую...
И упал перед Распятием на колени. Что б ни ждало его завтра, он готов служить Господу Иисусу Христу своему всей жизнью своей и смертью.
... Дня через два в квартирке отца Ионы зазвенел звонок. Священник снял трубку.
– Хотяшев, – представился невидимый собеседник, и голос его был раздражён и резок.
– Здравствуйте, Рэм Кузьмич. Слушаю вас.
– С амвона ничего не объявляйте, мы сами всё сделаем. В проповеди о девке каменной не упоминать! Это приказ.
– А посетить... – начал было отец Иона.
– Отказано, – буркнул уполномоченный по делам религий и бросил трубку, не попрощавшись.
ГЛАВА 4
Январь 1956 года. Крик Веры.
Оцепление вокруг дома сорок шесть на Волобуева поставили перед Рождеством Христовым. Дежурили и в самой избе, которую приходилось топить. Шестеро молодых милиционеров сторожили Веру Карандееву посменно по восемь часов. И это были продирающие насквозь восемь часов. Их не спасали ни атеизм, ни близость товарища, ни тепло печи, ни еда три раза за смену, ни редкие посетители, ни водка в свободное время. С каждого взяли подписку о неразглашении до самой смерти, и это пугало ещё больше. Ни поделиться ни с кем нельзя, ни постращать, ни поплакаться...
Савелий Глубоков и Родион Ванков предпочитали дежурить при свете керосиновой лампы, не включая люстру. Хотя они так и не поняли, что страшнее: видеть мёртвую живую в полумраке или при полном электрическом свете. Всегда страшно.
Ни разу она не пошевелилась, не дрогнула, не переступила, чтоб размять уставшее тело. Ни одна лёгкая гримаска не легла тенью на лицо. Даже тушь, румяна и помада не расползлись, такие же каменные, как и каменная кожа девушки.
Через две недели после Нового года в дом из больницы вернулась хозяйка – мать Веры Степанида Терентьевна. Когда она вошла после полудня, порыв ветра тронул и зашевелил тёмно-русые локоны каменной Веры, и Савелий Глубоков от неожиданности вздрогнул: ему показалось, что девушка ожила. Почему это показалось ему ужаснее окаменения?.. Он увидел, как на пороге гостиной остановилась высохшая бледная женщина лет пятидесяти, закутанная в старый серый пуховой платок. Тёмные глаза блестели от слёз, которые собирались в морщинах и увлажняли подбородок.
– Эй, вы чего здесь? – окликнул Савелий. – Не положено. Закрытая территория.
Сидевший на диване Родион Ванков спохватился, встал и подтвердил осипшим голосом:
– Запрещён вход всякому посетителю без разрешения.
Женщина ответила механическим, потусторонним тоном:
– Я хозяйка, Степанида Терентьевна Карандеева. А Вера... каменная... моя дочь.
Насчёт матери запрета у поста не имелось. Родион Ванков опустился обратно на диван.
– Надо бы сообщить Мозжорину, что жиличка появилась, – сказал Савелий Глубоков.
– Надо бы, – неохотно ответил Родион Ванков, наблюдая за Вериной матерью. – Он в управе сейчас. В отдел вернёмся, сообщим.
Глубоков выглянул в окно, зажмурился от яркого снега, блистающего на солнце. Оборачиваться назад, к чуде-юде с иконой, не хотелось. А надо. Савелий повернулся к такому понятному привычному свету спиной и, вздыхая, погрузился в странную жуткую атмосферу Божьего присутствия, Божьего наказания.
Верина мать стояла перед дочерью, застыв подобной статуей, и рассматривала её слезящимися глазами.
– Верочка, Верочка, – пробормотала она и протянула к дочери руку. – Что ж тут произошло такое, что ты вот так вот стоишь?... Доча! Откликнись, милая!
Пальцы её ощутили необъяснимые холод и твёрдость девичьей руки, щёк. Ресницы неподвижны. И глаза сморят в одну точку. Грудь неподвижна. Дышит хоть?
Степанида Терентьевна отошла от дочери, отыскала в комоде зеркальце, поднесла к накрашенному рту. Подержала, посмотрела, болезненно охнула: зеркальная гладь затуманилась. Жива, значит, непутёвая кощунница... Только что за жизнь у неё?! Что за жизнь... Никому не ведомо.
Степаниде Терентьевне невольно вспомнилось безымянная жена Лота – тоже кощунница, но её и сравнить с Верой нельзя: она в Бога верила, знала, что Он Творец сущего, молилась Ему, воспитывала дочерей своих в вере и смирении. Всего-то раз ослушалась Лотова жена повеления Бога – обернулась на погибающий в огне и землетрясении город, а значит, о прошлой жизни пожалела, о грехах своих, о страстях вспомнила. И окаменела. В соляной столп обратилась. Умерла она сразу? А может, и жила сколько-то – секунду, минуту, час, день целый? Или она до сих пор, через тысячи лет всё стоит в плену камня и каждый миг переживает гибель родного города, погрязшего в пороках и неверии, видит пожирающее людей пламя, разверзающиеся пропасти, кричащих соотечественников, гибнущих в чёрном дыму, переживает чужую боль и – своё падение? Оттого плачет, что не видит иной картины, не видит ни Бога, ни мужа, ни детей... Бог один ведает, как оно есть на самом деле...
А Вера? Что видит она? В мозгу у неё не пустота, нет. Не должна быть пустота. Она что-то видит, что-то не существующее в земном мире. Иначе зачем она стала, будто Снегурочка изо льда...
Степанида Терентьевна озабоченно осмотрела дочь. Ни пятен, ни вмятин, ни царапин. Будто только что встала и стоит, мать пугает неподвижностью своей.
– Верочка... Вера... – позвала Степанида Терентьевна, будто ждала, что дочь откликнется. – Верушка... Ну, хоть моргни, хоть вздохни... Что ж ты над собою сделала? Что ж ты... И накрасилась зачем-то... Зачем накрасилась? Что ли лучше для людей покажешься? Ну, смотри вон, пятна какие у тебя на личике, ну, шахтёрка шахтёркой. Давай-ка я хоть умою тебя...
Разрешения у постовых она не спросила. Нашла воды на донышке чана, зачерпнула железной миской, намочила конец узкого полотенчика, умыла лицо дочери, теряя сердцебиение от жалости. Косметика неожиданно легко стёрлась под лёгкими движениями материнской руки. Кожа была белоснежная и будто фарфоровая.
Милиционеры наблюдали и молчали.
Женщина постояла возле дочери, перекрестилась несколько раз. Губы её шептали молитву.
– Мать, – позвал Родион Ванков. – Ты приберись тут.
Она ещё постояла недвижимо. Затем оделась, взяла вёдра, коромысла и захлопнула дверь, так ничего и не сказав.
Вскоре вернулась. Доложила в печку дров, согрела воду.
Глубоков и Ванков с огромным интересом наблюдали за процессом уборки, которая длилась без малого три часа. Пока Степанида Терентьевна мыла и скребла, она не обращала на дочь внимания. А как закончила и два раза принесла воды в вёдрах, да сварила кипятку и сгрызла несколько сухариков вприкуску с обветренными жёсткими карамельками, так и села напротив Веры, сложив на коленях распухшие руки, да стала глядеть на дочь, будто надеясь взглядом любви и жалости оживить каменные члены.
Переделав все дела – приготовив скудный ужин, постирав, развесив бельё, помыв посуду, к ночи Степанида Терентьевна встала на молитву.
В красном углу пусто. Единственная семейная икона девятнадцатого века святителя Николая зажата руками дочери, ликом к неподвижной груди. Кому ж молиться? И свечей-то нет, и масла для лампады...
Степанида Терентьевна повязала поседевшую на днях голову чёрным платком. Где-то в глубине комода откопала в белье книжицу маленькую, в темно-зелёном переплёте, с золотым тиснением – молитвослов конца прошлого века, который мать Степаниды Терентьевны сумела сохранить и перед смертью передала дочери вместе с образом Николая Угодника.
Молитвослов Степанида Терентьевна прятала и от мужа – пламенного революционера, и от дочери – пламенной поклонницы марксистко-ленинской теории и теории научного коммунизма. Муж Николай Иванович Карандеев уверовал в Бога на войне, на которой нельзя было не верить, потому что смерть бродила рядом и каждый день бросала на тебя внимательный взгляд. Идя в атаку, кричали «Ура!», «За Родину!», а то и вовсе не кричали, и в душе почти каждый молился по-своему, неумело, но горячо, чтоб победить, чтоб вылечить и вернуться домой.