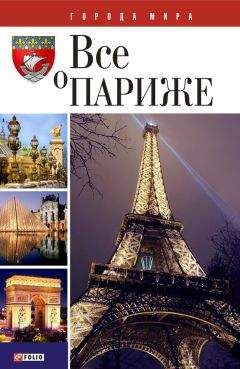Джонатан Франзен - Безгрешность
– Боже мой, тише, – сказал я.
Он схватил меня за локти и заглянул мне в глаза.
– Спасибо тебе, Том. Спасибо, спасибо, спасибо.
– Поехали отсюда.
– Ты должен понять, как много это для меня значит. Иметь друга, которому могу доверять.
– Если я скажу тебе, что понимаю, поедем мы наконец?
Его глаза светились странным светом. Он наклонился ко мне, и на секунду мне показалось, что он собирается меня поцеловать. Но он всего лишь обнял меня. Я обнял его в ответ, и мы постояли некоторое время, неуклюже сжимая друг друга. Я ощущал его дыхание, чувствовал, как испаряется пот из-под его армейской куртки. Он положил ладонь мне на затылок, как могла бы положить Анабел. Потом внезапно отстранился от меня.
– Подожди здесь.
– Куда ты?
– Одну минуту, – сказал он.
Я смотрел, как он вприпрыжку сбегает обратно в овраг, как раздвигает кусты. Мне не понравились его вопли, а эта новая задержка понравилась еще меньше. Он пропал из виду среди деревьев, но слышно было, как хрустят под его ногами сучки, как трется о ветки куртка. Затем – глухая тишина безлюдной местности. Затем – слабый, но различимый звук от пряжки ремня. Затем – брючная молния.
Чтобы не слышать дальнейшего, я немного отошел по дороге вдоль следов наших шин. На востоке светлело, и свет этот казался мне оскверненным. Я старался поставить себя на место Андреаса, старался вообразить себе радостное облегчение, которое он испытывал; но заявлять о своем сожалении, о раскаянии и дрочить на могилу жертвы – одно с другим попросту не вязалось.
Он управился за несколько минут. Вернулся вприпрыжку. Когда приблизился ко мне, сделал пируэт, подняв в воздух обе руки с выставленными средними пальцами. И вновь испустил вопль.
– Можем мы ехать? – спросил я холодно.
– Безусловно! Можешь теперь ехать вдвое быстрее.
Он, похоже, не заметил перемены в моем настроении. В машине он был маниакально словоохотлив, перескакивал с темы на тему – как у меня получится жить с ним и Аннагрет, как именно он собирается провести меня в архив, как мы с ним могли бы сотрудничать: он будет отпирать запретные двери, я – писать о том, что за ними скрывается. Он побуждал меня ехать скорее, обгонять грузовики на слепых поворотах. Читал свои старые стихи и объяснял их. Декламировал по-английски длинные пассажи из Шекспира, отбивая ритм белого стиха по приборному щитку. Время от времени прерывался, чтобы издать очередной победный клич или заехать мне по плечу обоими кулаками.
Когда мы наконец подъехали к его берлинской церкви на Зигфельдштрассе, я был еле жив от усталости. Он предложил быстро позавтракать и прямиком отправиться на заседание Гражданского комитета, но я сказал – и не солгал, – что мне надо лечь.
– Ладно, тогда предоставь все мне, – сказал он.
– Хорошо.
– Я никогда этого не забуду, Том. Никогда, никогда, никогда.
– Хватит об этом.
Я отпер из машины багажник и вышел наружу. Глядя, как Андреас средь бела дня вынимает из него лопаты, я запоздало задался вопросом, которая из них – орудие убийства. То, что я, возможно, пользовался именно этой лопатой, казалось после бессонной ночи очень скверным обстоятельством.
Он хлопнул меня по плечу.
– Как ты вообще?
– Нормально.
– Поспи. Встретимся здесь в семь. Поужинаем.
– Хорошо.
Больше я его не видел. Когда проснулся на своей нестираной простыне, до закрытия пункта проката оставался час. Я вернул им машину и в темноте пришел обратно к себе пешком. Мне по-прежнему очень хотелось видеть Андреаса и слышать его голос – да и сейчас хочется, когда я это пишу, – но печаль, от которой я спасался бегством, нахлынула так, что я едва держался на ногах. Я рухнул на кровать и заплакал – о себе, об Анабел, об Андреасе, но больше всего о своей матери.
Когда Анабел вывела меня из леса и мы пошли через пастбище к дому родителей Сюзан, небо над Нью-Джерси из-за приближения грозы сделалось трехмерным. Это был многоярусный облачный свод, богатый оттенками серого, белого и коричневато-зеленого. Она сказала, что хочет мне кое-что быстро показать, а потом проводит меня к автобусу, но я знал, что уехать автобусом восемь одиннадцать – фантазия такая же несбыточная, как наша надежда найти способ снова жить вместе, несбыточная хотя бы потому, что уйти, реализовать свое право на освобождение было делом крайне болезненным и я шарахался от этой боли, как измученное в неволе животное. Что угодно, только не это, и к тому же была перспектива новой близости, секса, обещавшего минуты желанной бессознательности.
И все же в дверях я приостановился. Это был летний домик в модернистском стиле шестидесятых с видом на горы и яблонями на задах. Анабел сразу вошла, а я задержался у входа: в животе, как в небе надо мной, вдруг стало неспокойно, сердце заколотилось – я теперь думаю, что переживал тогда самый настоящий посттравматический стресс.
– Входи же, входи, – сказала она тоном, сама сладость которого была безумной.
– Я теперь думаю, лучше не стоит.
– Ты помнишь, что оставил здесь в прошлый раз зубную щетку?
– Мой зубной врач меня в избытке ими обеспечивает.
– Мужчина, “забывающий” у женщины зубную щетку, это мужчина, который хочет прийти к ней еще.
Моя паника усилилась. Я оглянулся через плечо и увидел над дальним гребнем обрывок молнии; дождался грома. Когда опять заглянул в дом, Анабел видно не было. Пришла мысль – и я отнесся к ней совершенно серьезно: задушить ее во время секса, а самому потом броситься под автобус восемь одиннадцать. Идея не была лишена логики и привлекательности. Но слишком жестоко по отношению к водителю…
Я вошел и закрыл за собой сетчатую дверь. С моей помощью в один из прошлых приездов она освободила гостиную от мебели, оставила только коврик для йоги и медитации. От своего кинопроекта она еще не отказалась по всей форме, только “приостановила” его на время, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Жила она на половину моего наследства, которую получила от меня при разводе. После возвращения из Берлина мне одного дня с ней хватило, чтобы понять: моя тоска по дому проистекала из фантазии. Она сказала мне в свое время, что она не спагетти с баклажанами, но для меня именно этим-то она и была. И я выстроил для нас новую фантазию – о разводе как единственном шансе на воссоединение.
Анабел была уверена, что в Берлине я ей изменил: вот почему я не позвонил ей вовремя. Чтобы защититься от этого беспочвенного обвинения, я рассказал ей об Андреасе больше, чем следовало. Не об убийстве, не о моем сообщничестве, но достаточно рассказал о том, кто он и какова его история, чтобы объяснить и мою тягу к нему, и мое от него бегство. Она вывела заключение, что он козел и пробудил во мне козла – козла, вернувшегося из Берлина с мыслью о разводе. На самом же деле человеком, с которым я повел себя как козел, был Андреас. Я продинамил его с ужином, а потом только через два месяца послал ему принужденно-высокопарное письмо с извинениями, заверениями и “теплыми пожеланиями”.