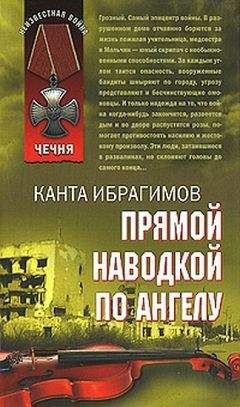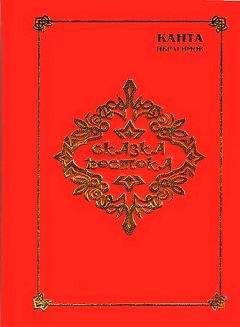Канта Ибрагимов - Дом проблем
— Но-но-но! — подражая, то ли подтрунивая, как Кнышевский любит говорить, погрозил Ваха. — Она отнюдь не нищая, тем более духом. Кстати, а что я ей такого наболтал? — Мастаев, уже явно издеваясь, подергивает веревку. — А хотите, скажу, и она выйдет за вас замуж. Только вам надо стать человеком.
— А что я, не человек?
— Вы ленинец. А это ложь, ложь и ложь, как учиться, учиться и учиться, — чтобы захватить власть, грабить, насиловать, править всем миром, что, к счастью, невозможно.
— А что возможно?
— Верить в Бога. Читать не Ленина, а Библию, Коран и другие древние вроде бы наивные мифы, легенды и сказки, где счастливый конец, то есть начало, когда мы одновременно женимся на матери и дочери Дибировых.
Казалось, даже природа усмехнулась: по крайней мере ветер так игриво засвистел и такой резкий, мощный порыв, что беглецы разом бросились к хилому стволу ели; их ошалелые глаза впились друг в друга, когда Кнышевский шептал:
— Слушай, Мастаев, ты хоть дурак, а соображаешь. Ради такой сказки следует побороться, надо жить!
— Свобода жить! — закричал Мастаев.
— Да-да, свобода жить! — вторил ему Митрофан Аполлонович. И тут, словно опьяненные, ничего более не боясь, вскочили в полный рост, как на земле: — Ты знаешь, какая она женщина?! Какая женщина! — восклицал он. — А как она играет, как Виктория Оттовна поет!
— Мария лучше! Гораздо лучше играет и поет! — возражает Мастаев.
Под этот игривый, как и тема их спора — музыка и женщина — треп, они быстро стали готовиться к решающему восхождению, тем более что ничего затейливого не было: они вновь, как и всегда по жизни, в одной упряжке. Правда, теперь Мастаев, как знаток, и не только местности, а их новой идеологии — древних мифов земли, — ведущий, — он знает, что у их сказки, как у всего человечества, счастливый конец. А вот Кнышевский теперь тоже хочет верить, чтоб сказка стала былью, вместе с тем в нем еще так много из революционного прагматизма, что он в догмы мифов, как урок или намек, мало верит; поэтому ведомый.
В отличие от духовной материальная составляющая очень скудна. Ваха вооружен предусмотрительно заготовленными деревянными колышками для особо опасных мест. У Митрофана Аполлоновича теперь штык-нож.
Они сами удивлялись, как резво и быстро начали этот подъем, однако, как в писаниях описано, «сделанное из глины», а годами истерзанное и иссохшее тело человека уже не соответствует дару Бога — вечно молодому духу и сердцу, они скоро вновь выбились из сил. И, как старший, Кнышевский больше, и все дольше их остановки. А Ваха торопит, дергает веревку, как поводырь, а его напарник скулит:
— Ты сказал двести метров, а небось уже полкилометра ползем. Где твой край?
— Не шуми! Береги силы. Вся высота — три двести. Осталось чуть-чуть, держись.
— Я руку порезал.
— Терпи, до наших свадеб заживет.
Не верить в это не хотелось, и они через не могу медленно продвигались, как случился срыв: на одном из самых опасных, почти отвесном переходе, колышек под Кнышевским вдруг обломился. Вот тут, если бы Ваха не подстраховал, вцепился он в выступ, а предательское сознание уже рисует картину, как он словно мешок бьется о скалу, с камнепадом летит и плашмя на металлический люк БТРа. С такой мыслью бороться нелегко, и хорошо, что рядом партнер, которого он только теперь впервые в жизни хочет назвать другом.
— Кнышевский, живой?
— Вершину видно?
— Скоро, — подбадривая друг друга, они вновь пошли. И опять из-под ноги Мастаева выскочила глыба. И благо — вскользь, по плечу, ведь все на волоске, но Аполлоныч удержался. И оставалось совсем немного. И Ваха это уже видел, а Кнышевский по опыту чувствовал, потому что воздуха не хватает, на перепонки давит, очень холодно, конечности коченеют. И ветер порывистый, свистящий, беспощадный ветер, готовый слизать все живое, как язык ящерицы, муравья. И этот ветер, этот ледяной, и по отношению к их судьбе, ветер пригнал черную, влажную, холодную тучу, так что Мастаев с ужасом отчего-то вспомнил ледяную баню псих-лечебницы. И если бы не друг за спиной, которому он крикнул: «Эй», а тот ответил угрюмо: «У-у», стало бы совсем плохо. А так, храбрясь друг перед другом, они застыли, приледенев к скале, зная, что на этой, теперь уже скользкой тропе их окоченелые руки и ноги не помогут, могут только стоять, но это совсем невыносимо. Они застыли надолго, лишь изредка возгласами подбадривая себя. А потом и на это сил не стало. И хорошо, что в таком густом тумане каждый звук прекрасно слышен, они чувствуют частое, да еще живое дыхание друг друга. И тут до них донесся гул — вертолет, пожалуй, не один. И он не скоро, да исчез. А Мастаев понял, что, как в легендах, это облако спасало их жизнь. Его настроение явно улучшилось, и, как гармония с природой, эта туча стала резво редеть, словно Создатель включил свет — сразу посветлело. Утреннее солнце подарило тепло.
Ваха знал это место. Отсюда открывается потрясающий вид, словно из космоса, на все Шароаргунское ущелье, по которому блестящей змейкой искривилась родниковая артерия неугомонной реки. Осенью эта ярко-пестрая панорама оказалась еще более сказочной, завораживающей. И как когда-то, когда не было войны и у него были дед Нажа и мать, и он был беззаботно счастлив и кричал, когда увидел радугу над ущельем, он и сейчас, увидев вновь ту же радугу:
— Аполлоныч, посмотри, какая радуга, какая красота! — кричал он, как ему казалось, на всю Вселенную. — Мы спасены! Мы выползем из ада. Мир! Какой мир! Свобода жить! Пошли! — он рванулся навстречу солнцу. Однако груз, словно непомерные земные грехи, тащил его обратно. — Пошли! — почти со злобой зарычал Ваха, напрягаясь из последних сил. И тут, точно лезвием по сердцу, как струна натянутся веревка со стоном перерезана. Мастаев вдруг почувствовал телесное облегчение, а в душе наступил мрак — он только-только обрел друга и тотчас потерял его. И была мифическая мысль: броситься вслед, схватить на лету, обоим как-то спастись. Но ведь он не совсем дурак, а лишь по справке и по решению какого-то российского суда. И его ждет сын. И он хочет, ой как хочет покорить гору, чтобы под горку до ночи добраться до родного села. А там пчелиная музыка из фортепьяно любимой Марии.
Эта мысль подстегнула и помогла из последних сил карабкаться вверх. Оказалось, совсем немного — и этот смертельный участок позади. Ваха даже не передохнул, а, как почувствовал надежную опору, глянул вниз и восторженно закричал:
— Аполлоныч, ты здесь? Ай! Держись, держись. Мы будем жить!
Теперь это была не веревка с ремнем, это была спасательная жила, к которой привязано все, что можно, — куртка, брюки и даже рубашка. И вряд ли эта хилая связка, за которую Кнышевский смог вцепиться только зубами, правда, мертвой хваткой, могла бы спасти, то есть удержать, тем более поднять этот вес, — просто, очень просто, это был рукав дружбы, спасения, единства!