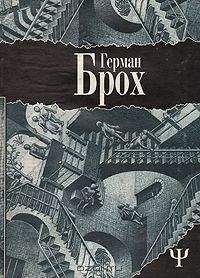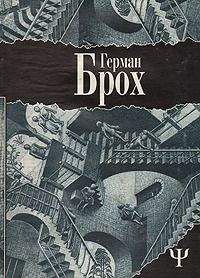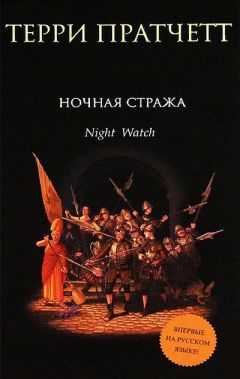Герман Брох - Избранное
— Уже неспособна! — повторил Август. — Сначала было неспособно искусство, а теперь уже и философия! Опять эта твоя казуистика, Вергилий, — то слишком поздно, то слишком рано! Теперь и для философии слишком поздно?
Там, в лишенном пространства пространстве слова, возвышался город, и был он всего лишь сплетеньем словес, пустым суесловием, не отбрасывающим тени, непостоянным и зыбким, — город без символа, город, с утратой символа утративший и опору; воистину судьба была благосклонна к нему, когда не дала ему остаться в этом городе.
— Время ни с чем не считается, Август; мысль достигла своих пределов.
— Человек еще может своею мыслью достигать богов, и этого, я думаю, ему достаточно.
— О, рассудок человеческий беспределен, но стоит ему прикоснуться к беспредельности, как его отбрасывает назад… и он лишается познания… и наступают смерть и запустение на земле, великий потоп, бряцание мечей, реки злодейски пролитой крови…
— Философия в гражданских войнах неповинна.
— Но время для них тогда созрело… и вот сейчас пришла пора поворачивать плуг в другую сторону.
— Время каждый день для чего-то созревает.
— Без общей основы познания, без согласия в коренных истинах невозможны ни понимание, ни доказательство, ни убеждение; лишь общность взгляда на бесконечное является основой всякого согласия, а без этой общности даже простое сообщение и то невозможно…
— Ну, Вергилий, в конце концов ты и сейчас мне кое-что сообщаешь, так что с нашим согласием дело обстоит не столь уж безнадежно; мне, во всяком случае, его достаточно.
— Ах, прав Цезарь, прав — какой в этом диспуте толк? Какое Цезарю до всего этого дело? Так тягостно препираться с ним, но что-то к этому и принуждает: судьба «Энеиды» — все ради нее…
— Философия — это наука, это истина рассудка; она должна уметь доказывать, ей нужна основа для познания, а осно…
Откуда раздался этот смех, беззвучный и злорадный смех умника? Неужто раб? Или это с хохотом возвращаются бесы?
— Ну, что же ты замолчал, Вергилий?
Снова возникли Афины, снова странное чувство разочарования, оставленное Афинами. Где это хохочут? В Афинах?
— Основа познания предшествует рассудку и всякой философии… Она — наипервейшее условие, и она находится одновременно и внутри и вовне… Это ведь ты вернул меня из Афин, Октавиан? Так ведь?
Перламутровой раковиной раскрылся небосвод над Адриатикой, корабль качало, белыми гривами встряхивали кони Посейдона; снизу доносился смех и шум гостей; на палубе в белесом свете сумерек запел раб-музыкант — одинокий мальчишеский голос.
— То, что я вернул тебя из Афин, было правильно и тебе на пользу, мой Вергилий… Уж не хочешь ли ты сказать, что философия сложила с себя теперь всякий долг, поскольку тебя не оставили на убогом попечении в городе философов?
Ах, Цезарю все-таки полагалось быть на другом корабле, а не на этом!
— Философия утратила основу для познания… Почва ушла у нее из-под ног… опустилась глубоко-глубоко в море… Цель философии — небо, ей бы расти и расти ввысь и коснуться бесконечности в своем росте, а теперь ее корни не достанут дна, даже если они и там будут расти до бесконечности… Иначе бы я вообще не вернулся с тобой, Октавиан… Где не приживаются корни, там торжествует пустота, лишенная тени… Мы утратили основу для познания, и на корабле царит пустая болтовня… так много вздора… Наверное, ты не столь остро это ощущаешь, ибо тебя не сделала провидцем морская болезнь… Прежде у философии была основа для познания, и на ней она могла строить… А я, как и ты, не хотел видеть, что она эту основу утратила… Я поехал в Афины… да, все-таки поехал… Но сегодня эта почва утрачена ею навсегда… эта плодоносящая почва, в которой она коренилась… Разум лишился мужественности, и мысль теперь бесплодна…
Да, бесплодна; и смеяться над этим никто не вправе. Не вправе даже сам бог, который видит пустоту и желает пустоты. И гляди-ка— неуместный смех в самом деле смолк. А вместо него послышался голос Плотии: «Согласие — молчаливо; оно не нуждается в доказательствах. Возвращайся домой, в раскрытую раковину безмолвия». И так мягко это прозвучало, что замедлился даже ход корабля и разгладилась морская равнина; еле ощущались мерные взмахи весел, еле слышался скрип рей, и лишь там и сям порой позвякивала цепь.
Опершись о мачту канделябра, одну руку снова подняв к увитым лаврами парусам, плыл Цезарь, любящий супруг, в блеске и силе мужественности возвращавшийся к супруге, к ожидающей его Ливии, и, поскольку само время плыло вместе с кораблем, невозможно было высчитать, как долго длилось безмолвие, прежде чем он снова заговорил; но он заговорил:
— Если философия утратила основу для познания, то ее долг сегодня вновь эту основу обрести.
Похоже было, что Цезарь до сих пор все-таки был на другом корабле или все еще на нем находился, раз он не слыхал, что корни уже не достают дна; надо попытаться втолковать ему это другими словами, понятней.
— Вяз не годится на корабельные мачты; они должны быть прочными и в то же время гибкими и упругими… так стоять и расти…
— Ты переутомился, Вергилий? Позвать снова врача? — Цезарь поспешно отодвинул стул и наклонился над ложем; вот оно, его лицо, — совсем близко.
Лицо было совсем близко, почти так же близко, как прежде лицо Плотии. И вдруг порвалась пелена тумана:
— Я чувствую себя хорошо, Октавиан… даже очень хорошо… но, кажется, меня перед этим несколько повело…
— Ты говорил как-то темно… правда, с тобой это бывает; потом подумаешь — и темнота оказывается мудростью.
— Мудрость? У меня? Не было такого! Никогда!.. Сейчас я, кажется, просто искал подходящего примера, чтобы ответить тебе… да так и не нашел… Но ты — это я помню — ты говорил о философии и об основе познания.
— Истинно так, Вергилий; не будем больше ломать над этим голову.
— А философия уже не в силах создать себе основу для познания…
— Это еще надо прояснить… — Август явно думал о другом. — И вообще, не об этом у нас речь, Вергилий.
Колебание почвы, волнение подземных глубин еще продолжалось, но все остальное было ясным и без всякой странности: ясными и естественными были исчезающе тонкие контуры ландшафта за окном, ясной и естественной мачта из вяза, и кровать его уже не была огромным кораблем, а самым ясным и естественным образом уменьшилась до размеров простой ладьи, на которой так приятно было плыть и плыть; лишь в явлении Цезаря, при всей привычности его повадок, не было ни полной ясности, ни полной естественности, и приходилось все еще прилагать усилия, дабы убедить его и тем вернуть в сферу ясного и реального.
— Рассудок не способен создать для себя самого предпосылки, а стало быть, не способна на это и философия; как ни могучи твои чресла, собственным предком ты все равно не станешь…
Снова смех! Не из его ли он рвется собственного горла, не из его ли собственной груди? Да, вот он засел там и болит, странно болит…
— Нельзя породить себе ни отца, ни праотца, нельзя породить для себя предпосылки… Ничто и никто не в силах, подобно Прометею, преступить собственный предел, ничто и никто его никогда не преступит… Неправда!..
Неправда, неправда… Кто прошептал это слово, вдруг прилетевшее ниоткуда, — раб или Плотия? Непонятно кто, но скорее все-таки Плотия, ибо она продолжала: «Снова и снова любовь преступает собственный предел». — «А твоя любовь, Плотия? Она — преступала?» — «Преступала и преступает: кто любит, тот всегда пребывает за своим пределом». — «О Плотия!» — «Чувствуешь ты меня? Я тебя люблю и чувствую тебя, очень!» — «О Плотия, я чувствую тебя, ты рядом, я знаю». — «Да, Вергилий, да». И слились пределы их тел, слились пределы их душ, и росли, и перерастали пределы, познавая и открываясь познанию.
С явственным нетерпением в голосе Август спросил:
— Что неправда, Вергилий?
— Бывает, что и преступают собственный предел.
— Это мне приятно слышать. Стало быть, твоя уступка остается в силе?
— Преступить предел…
— Ты говоришь о философах? Или о поэтах? Кто преступает предел?
— Где Платону это удалось, там философия стала поэзией… На высочайших своих вершинах поэзия была на это способна, она была преодолением предела…
Хоть и с несколько отсутствующим видом и с излишней поспешностью Цезарь снова удовлетворенно закивал:
— Ну, ты как художник, конечно, достаточно скромен, чтобы усомниться в собственной мудрости, но по крайней мере и достаточно честолюбив, чтобы не отказывать в ней искусству вообще…
— Это не мудрость, Октавиан… Не мудрые становятся поэтами — разве что призванные к мудрости… Нет, это своего рода безотчетная вещая любовь… Вот ей и удается иной раз взорвать пределы…
— Хорошо, что ты хоть чувствуешь себя призванным к мудрости… Потому давай не будем препираться насчет философии, отошлем ее к поэтам — если уж она и в самом деле не способна пробиться к собственным предпосылкам; велим ей позаимствовать основу для познания у поэзии, чья красота, как ты сам признаешь, вобрала в себя всю мудрость.