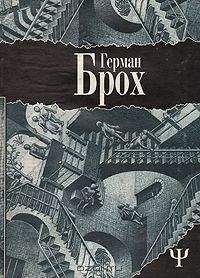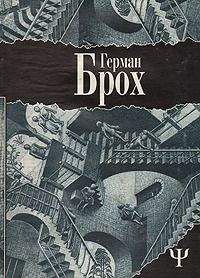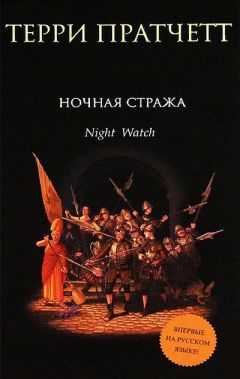Герман Брох - Избранное
— Город черепиц стал городом мрамора.
— Верно, Август, зодчество у нас в расцвете, в пышном расцвете — может быть, даже уж и в слишком пышном; но как бы то ни было, оно полно силы, ибо оно расположено в пространстве, оно зримо, как и возведенное тобой государство — символ порядка и само порядок.
— Стало быть, в случае с зодчеством ты все-таки готов на уступку?
— Незыблем порядок в переменчивости времен, незыблемо пространство в земных пределах, о Август, и повсюду, где еще удалось создать порядок на земле, истинный порядок человеческого бытия, там неодолимо и желание воздвигнуть в пространстве зримые символы этого порядка… Символами порядка стоят и Акрополь, и пирамиды — и храм Иерусалима… Они — свидетельство людского стремления преодолеть время порядком в пространстве…
— Что ж, прекрасно… Так уж позволь мне все-таки назвать это уступкой — ведь это первая, которую я у тебя вырвал, и очень даже для меня отрадная и важная — хотя бы в отношении Витрувия: иначе он тоже в любое время мог бы потребовать от меня снести все его сооружения… Но шутки в сторону. Мне не хотелось бы противопоставлять зодчество поэзии, а Витрувия Вергилию, хотя Витрувий, если не ошибаюсь, посвятил мне свой трактат о зодчестве, а вот Вергилий хочет лишить меня «Энеиды»; однако, если опять-таки говорить серьезно, я просил бы тебя учесть, что уступка, до которой ты снизошел касательно зодчества, включает в себя равным образом и все другие искусства. Цельность искусства нерасчленима, признание за зодчеством права на существование влечет за собой признание такого же права и за поэзией, и потому мне позволено будет, не ссылаясь снова на Перикла, но вполне в твоем духе, сказать еще в подкрепление, что, безусловно, всякий расцвет государственного сообщества всегда способствовал широчайшему развитию всех искусств, а стало быть, и поэзии.
— Несомненно, Август; искусство — это великая цельность. Твоего слишком быстрого согласия я опасаюсь, Вергилий; чем оно быстрей, тем быстрей у тебя следует опровержение.
— Напротив, я еще и расширю свое согласие… Выражает ли себя искусство тем или иным способом — во всех своих ответвлениях, будь то архитектура или музыка, — всегда оно служит познанию и выражает познание; цельность познания и цельность искусства — сестры, и у обеих один отец — Аполлон.
— Какое познание ты сейчас имеешь в виду? Познание жизни или познание смерти?
— И то и другое: одно обусловливает другое, будто у них и образ один.
— Стало быть, все то же познание смерти?! Признайся, ты ведь снова ведешь к отказу от своей уступки!
— Конечно, нигде в искусстве долг познания не предписан так настоятельно, и четко, и властно, как в поэзии, ибо поэзия — это язык, а язык — это познание.
— И каков же вывод?
— Ты только что оказал мне честь, процитировав слова Анхиза…
— Я чту тебя, Вергилий, хотя вот как раз сейчас несколько меньше обычного, ибо ты снова пытаешься свернуть на околичности; цитируя твои стихи, я просто хотел показать тебе, что сам же ты считал неподобающим занятием копание в мелких огрехах формы, отделку их до безукоризненного совершенства, — сам же считал все это игрой, забавой, неподобающей достоинству и серьезности римского искусства…
— Да… но как мила нам эта игра — без конца шлифовать, улучшать…
О, как велик соблазн снова ко всему этому вернуться!.. Вон он стоит, сундук, а в нем аккуратно исписанные свитки, манускрипт, который можно снова просмотреть, строчку за строчкой, оттачивать грамматику, метр, мелодию, смысл — о, какой соблазн, какой неодолимый, ужасный соблазн! Но раб, уже приблизившийся вплотную, уже вставший у самого края кровати, раб сказал, тихо-тихо: «Не думай об этом: стоит начать, как отвращение охватит тебя». И руки Плотии отлетели, истаяли снова.
Цезарь же, в бликах безмолвного белесого света, в бликах солнечного затмения, — Цезарь сказал:
— Таковы были слова твоего Анхиза, и, сколько бы ты сейчас ни уверял, что тебе милы все эти изыски, ты уже не можешь ни перечеркнуть свое собственное мнение, ни принизить его.
— Слова Анхиза… — Анхиз был среди теней, и его слова — всего лишь слова; и не только свет вокруг был белесым — белесым было само время, бесплотная, блеклая тень.
— Слова Анхиза, твои собственные слова, Вергилий!
— Ну, коль скоро они пришли из царства теней, я-то знаю, что вкладывал в них более глубокий смысл…
— Ах, так…
— Ты истолковал их еще недостаточно сильно, Август.
— Если мое истолкование было слишком слабым, поправь меня; я сожалею об этой слабости.
Цезарь снял руку с канделябра, оперся обеими руками о спинку стула, на переносице очертилась опять резкая складка неудовольствия, нога нетерпеливо и жестко отстукивала дробь по мозаичному полу; в этом был весь Цезарь — малейшее прекословие способно было вызвать в нем мгновенную и непредвиденную вспышку раздражения.
— Твое истолкование не слабо — просто оно допускает некоторые уточнения… ведь многое лишь со временем обретет свой подлинный, вначале только предчувствуемый смысл…
— Так открой же его.
— Перед лицом исконно римского искусства державной власти, искусства поддержания государственного порядка и мира бледнеют все прочие проявления искусства, а не одна только милая сердцу поэтов художественная игра; перед ним поистине бледнеет даже то высокое благородство, в коем единственно должно воплощаться искусство, если оно не хочет остаться лишь нечестивым искусом украшательства… да, даже такое благородство бледнеет перед ним; вот что я хотел сказать словами Анхиза — и я всего лишь повторил это, когда поставил твои дела, твое государство как единственно подлинные и действенные символы римского духа выше всякого искусства…
— А я тебя опроверг… Искусство длится вечно, оно неподвластно ходу времен.
Таинственно текло время — пустой, полый поток.
— Позволь мне, Август, еще только сделать уточнение, о котором ты просил.
— Говори.
— Именно великому искусству, знающему свой долг познания, ведома также и пережитая нами утрата познания и утрата бога; неотступно стоит перед его глазами ужас смерти и запустения…
— Но я уже напомнил тебе о персидских войнах.
— …и потому оно знает, что вместе с созданным тобою новым порядком должно расцвести и новое познание — оно вырастет из бездны нашего неведения, вознесется столь же высоко, сколь та была глубока, — потому что иначе новый порядок не имел бы ни цели, ни смысла, и спасение, дарованное нам тобою, было бы напрасным…
— Это все? — Цезарь, кажется, был вполне удовлетворен. — Это и есть твое уточнение?
— Да… чем яснее искусство, и особенно искусство поэзии, осознает свой долг познания, тем отчетливей оно понимает, что глубины его символов для нового познания недостаточно; оно предчувствует приход этого нового познания — и именно потому понимает, что должно уступить место его более глубоким символам.
— Хорошо, хорошо, новое познание — это прекрасно, только мне сдается, что ты уж слишком неограниченно используешь сейчас познавательный долг искусства для достижения своих целей…
— Но этот долг — средоточие творческого духа.
— И ты намеренно не хочешь учитывать того, что цельность духа включает в себя и искусство…
— Новое познание лежит вне пределов искусства, оно не подвластно его символам — в этом-то и суть.
— Ты намеренно не учитываешь того, что всякий расцвет государства означает такой же расцвет не только для искусства, но и для познания; ты не учитываешь, что в великую эпоху Афин наряду со всеми искусствами процветала и философия, и ты не хочешь этого учитывать потому, что в созданную тобой странную картину, в твое представление о победе над смертью как о недостижимой цели познания философия укладывается столь же мало, как и все остальные твердые жизненные данности. Да ниспошлют тебе боги понимание того, сколь ты не прав; я же пока буду все-таки уповать на философов — в надежде, что они отыщут то новое познание, коего ты требуешь.
— Философия на это уже неспособна. — Слова произнеслись сами собой; их не надо было ни продумывать, ни даже придумывать, они будто прямиком слетели с глаз на язык, ибо за всеми словесами — вот здесь, в белесых потемках залы? или там, снаружи, в белесых контурах ландшафта? о нет, еще дальше, много дальше, в странном безвременье, поверх всех времен, возник желанный город, Афины, град Платона, город, в коем не дано ему было остаться, не дано судьбою, и судьба нависала над городом еще и сейчас, подобно белесому облаку, хоть и чреватому смертью, но лишенному тени.
— Уже неспособна! — повторил Август. — Сначала было неспособно искусство, а теперь уже и философия! Опять эта твоя казуистика, Вергилий, — то слишком поздно, то слишком рано! Теперь и для философии слишком поздно?