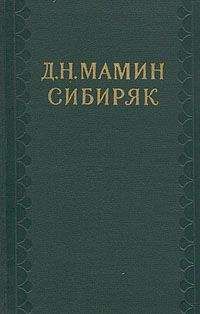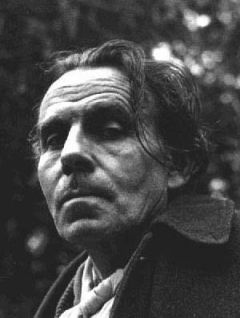Марк Хелприн - Солдат великой войны
Он купил все это в магазине альпинистского снаряжения, в котором бывал до войны. Сейчас в нем отсутствовали как покупатели, так и карты. Ему сказали, что и первые, и вторые появятся после заключения мира, потому что пока горы и предгорья считаются стратегическими объектами.
В одном кармане куртки Алессандро соседствовали железнодорожный билет до Гармиш-Партенкирхена и пистолет, который он забрал у часового в Школе верховой езды. Ему не хватило времени снять запасные обоймы с ремня солдата, так что его боезапас ограничивался десятью патронами. Один или два он собирался потрать на Андри. А остальными восемью защищаться от немецких и австрийских горно-стрелковых дивизий, которые блокировали путь на юг. Свои шансы он не оценивал ни оптимистически, ни пессимистически, давно узнав на собственном опыте, что в опасных авантюрах, вроде битвы или побега, оптимизм и пессимизм никакой роли не играют.
Наслаждаясь ощущениями горячей ванны — под дребезжание стекла то ли от порывов ветра, то ли потому, что по соседним железнодорожным путям прошел поезд, — Алессандро совершенно забыл, что он солдат. На обед съел мясной суп, большой кусок тушеного мяса, картофель, салат, выпил пива. Чуть не заснул в ванне, с трудом сумел подняться, когда утекла вода и вернулась сила тяжести. В номере его ждали холодные и белые простыни и свежий воздух, который зимний ветер проталкивал в щели. Какое-то время он лежал, глядя на одежду и снаряжение, аккуратно сложенные у кровати и освещенные электрической лампочкой. А когда выключил свет, комната наполнилась рафаэлевскими красками: оттенками красного и зеленого, которые не имели названия. Они пришли, чтобы повести его через горы и вниз, к теплу и славе Рима.
* * *Когда рано утром Алессандро шел по улицам Мюнхена, снег казался мягче, чем вчера, а солнце — жарче. Он чуть подволакивал ноги, дышал учащенно, словно в разреженном воздухе, щурился — не столько от света, а потому что свело лицевые мышцы.
Дверь открылась, и на пороге возник высокий человек в эдвардианском костюме и медицинском халате с вышитым кадуцеем на рукаве. Халат покрывали пятна краски разных цветов, а вместе с теплым воздухом в нос Алессандро ударил запах скипидара.
Сперва бывший майор с недоумением уставился на, как он решил, англичанина-альпиниста, но в следующий миг Алессандро втолкнул его в дом, закрыл дверь и вытащил пистолет. Андри не решался раскрыть рта.
Алессандро мотнул головой, предлагая хозяину дома пройти в большую комнату, французское окно которой выходило в сад. В студии, полной картин, одна, на три четверти законченная, стояла на мольберте: солдаты в окопах, спиной к зрителю, всматривались через бруствер в сломанные деревья и горящие кусты.
— Черт бы тебя побрал, — прорычал Алессандро. — Плевать мне, хорошие у тебя картины или плохие.
Андри понял ситуацию, но, как и Алессандро, был солдатом и не боялся умереть. Он ощущал то же самое в тот момент, когда бросал самолет в глубокое пике или закладывал крутой вираж, чтобы атаковать врага. Улыбнулся с легкой горчинкой.
— Я вижу, война подняла искусствоведческую критику на новую ступень. Раньше вы несли чушь, а теперь решаете вопрос кардинально. Ты пришел, чтобы отомстить за какие-то мои действия в воздухе.
— Да.
— Ты был летчиком?
— Пехотинцем.
— Бомбежка на бреющем полете в Коль-ди-Лане. Вашим окопам тогда крепко досталось. Для нас выдался удачный день. У вас была только одна зенитка, да и та перестала стрелять. Могу тебя понять, если ты воевал в Коль-ди-Лане.
— Я не воевал в Коль-ди-Лане.
— В Кляйнальпеншпитце?
Алессандро покачал головой.
— В Гроссен Шлонлайтшнайте? Который вы называете Доломити ди Сесто?
С каждой новой неверной догадкой Андри чувствовал, что углубляет себе могилу, но и молчать не мог.
— В Бренте?
— Да.
— Кавалерийская колонна в Грюнзе?
— Не колонна, они были солдатами.
— Тогда что? — спросил Андри, подняв плечи.
— Госпиталь.
— Мои бомбы легли мимо цели. — В голосе Андри послышались нотки негодования, но прозвучал он убедительно. — Колонна двигалась между домами.
— Это твоя первая ложь.
— Я не лгу.
— Лжешь. Я там был. И все видел. Колонна уже рассеялась, целей для бомбардировки не осталось, но ты вернулся. Разбомбил именно тот дом.
— Это не так! — гнул свое Андри.
— Так, — покачал головой Алессандро. — Я читал написанный тобой рапорт об операции.
— Как тебе это удалось? — удивился Андри, негодование сменилось паникой и раздражением. — Как ты меня нашел? Именно так? По моему рапорту австрийской армии? Они рехнулись?
— Удивительно, правда? — В голосе Алессандро не слышалось вопросительных ноток. — Кто бы мог подумать, что бюрократы правят миром.
— На войне такое случается, — Андри попытался спасти свою жизнь. — Ни одна сторона не является образцом добродетели. — В голосе послышалось отчаяние. — Ты пришел меня убить.
— Да.
— Зачем тебе моя смерть? Я бы мог рисовать. Я мог бы рисовать еще сорок лет.
— Ты умрешь.
— Но что в этом хорошего?
— Я смотрю на это иначе. Для меня это чистое торжество справедливости. Ничего утилитарного, только эстетика. Загляни в свои книги о симметрии. А что хорошего? Может, на другой войне ты разбомбишь еще один госпиталь.
— В наше время другой войны не будет.
— В твое точно, — Алессандро поднял пистолет. — В доме, который ты разбомбил, было много солдат. Некоторые уже умирали. Другие надеялись выйти из госпиталя и вернуться к своим семьям. И кто их этого лишил? — На миг у Алессандро перехватило дыхание. Потом он дрожащим голосом проговорил: — Медсестры, десять или больше. — Он наклонился вперед. — Кто такие, по-твоему, медсестры? Молоденькие девушки. После того как ты улетел, развалины так пылали, что я не смог подойти. Одна из них была… — Алессандро не смог договорить. Просто стоял, и его трясло.
— Она бы хотела, чтобы ты это сделал? — спросил Андри.
И тут Алессандро успокоился. Через пару секунд улыбнулся и ответил:
— Почему бы тебе не задать этот вопрос ей?
Андри, смирившись, кивнул.
— Ладно. Больше мне сказать нечего. Я думал, что все позади. Пытался чувствовать себя счастливым эти последние месяцы. Пусть будет так.
Справа с грохотом открылась дверь. От неожиданности Алессандро развернулся, держа пистолет обеими руками, но увидел лишь девочку шести-семи лет. В пальто из грубой шерсти, с заплетенными в косички волосами, со школьным портфелем в руке.
— Ты опоздаешь, — укорил ее Андри. — Учительница рассердится.
Она застыла в дверях.
— Это Ильзе-Мария, моя дочь. Ильзе… иди.
Она не шевельнулась.
Алессандро смотрел на ребенка, потом, опустив пистолет, повернулся к отцу.
— Ты победил меня уже второй раз.
* * *Когда Алессандро в первый раз стоял лицом к лицу с Биндо Альтовити, его окружало так много близких ему людей, что идея одиночества казалась привлекательной. Дом на Джаниколо казался крепостью, несокрушимой временем. Он всегда возвращался в лоно любящей семьи, принимал как должное студенческое братство, мир казался садом прелестных и неподвластных смерти женщин.
Он вновь пошел в тот зал в Старой Пинакотеке. Рука Биндо Альтовити, почти женственно отдыхающая на груди, казалось, выполнена не Рафаэлем, а кем-то из учеников. Тысяча рафаэлевских образов для сравнения проносились в памяти Алессандро: могучие боевые кони, свирепое выражение морд которых соответствовало их сущности и напоминало людей; сцены и лица в золотистом свете сумерек; херувимы с лицами более старших детей, потому что младенцы не могли позировать Рафаэлю.
В отличие от более поздних картин, с их нестрогой и галлюцинаторной палитрой, любой из мазков, резкий или смягченный, сверкающие поверхности, воздух на свету, утреннее небо или вечерняя звезда — все подчинялось железной руке Рафаэля. Никаких уловок или причуд, ничего центробежного, ничего неистового, ничего, выпадающего из гармонии, пронизывающей мир и перенесенной на холст. И только груз смертности придавливал, выстраивая все элементы, примиряя все противоречия и вариации.
В своем бесконечном разнообразии модели художника, как представлялось Алессандро, выражали убежденность, что на земле они только на краткий миг, вынырнув из океана душ. Сапфирово-синие и безоблачные небеса служили убежищем, приютом от великих и сокрушительных битв, безмятежным Царствием Небесным, которое скоро оставалось в стороне: большинство пренебрегало им ради воображаемого рая, грубо скомпонованного из позаимствованных элементов небес. Мир — место спокойное, думал Алессандро, его образы запечатлены навечно. Они никуда не исчезают. Их можно запомнить и можно предугадать. В этом обещание и значение живописи, причина хладнокровия Биндо Альтовити. Возможно, когда-нибудь Алессандро сможет взирать на все так же спокойно, как молодой флорентиец, но сейчас его следовало простить за нетерпеливость, потому что он намеревался попасть из Германии в Италию — через горы, зимой, и успех зависел не от продуманности действий, а от удачи и упорства.