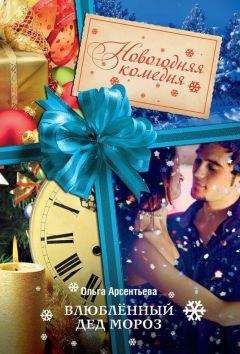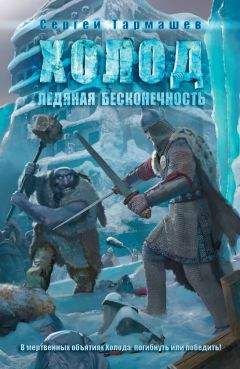Курилов Семен - Ханидо и Халерха
— Не верно! — зло сказал вместо Каки Пурама. — Нечего ему думать, что он шаманом останется. Мы ему все равно спокойно спать не дадим.
— Кто пытался вмешиваться в мои дела — все сворачивали с дороги! — сказал с намеком на Ниникая Куриль. — Тридцать песцовых шкур привезешь мне, Кака. Тридцать. И самых лучших…
— О-ой, — скособочился, будто от страшной боли, шаман. Ладонью он закрыл щеку с красной отметиной, словно только сейчас почувствовал страшный удар.
— Не стони. Это — по-божески. Сколько взял песцов у Нявала? А? И молчи. А то скажу — сто, и отдашь сто…
— Куриль, пожалей!
— Ты Нявала жалел? Песцы пойдут на строительство церкви. И ты подтвердишь, что даешь добровольно.
— О-ой, Куриль. Ты же насильник больше, чем я. Шаман помогает церкви… Я бубен сожгу.
— Что тебе выгодней, то и делай. А песцов отдашь все равно. Иначе Нявал поедет в управу и разорит тебя.
— Ладно, отдам, — согласился Кака. — Но больше не сделаю ничего!
— Сделаешь. Тридцатью шкурками откупиться собрался? — опять выскочил Пурама.
— Мой шурин будет молчать, или он уедет отсюда, — жестко сказал Куриль, грозно повернувшись к нему. — Тут не колымская ярмарка… — Он стал ходить туда-сюда, успокаиваясь. — Кака. Еще одно дело. На попа будет учиться Сайрэ.
Но Синявину может понравиться Косчэ-Ханидо. Однако он бубен держал. Так ты скажешь Синявину, что это была шутка. Это ведь так и было — парень для обмана взял его в руки.
Шаман скривил губы в усмешке и уставился в глаза Курилю как будто одиноким на его лице и потому очень пронзительным глазом.
— Что, моему слову хочешь поверить? А если закричу: "Шаманил он"?
— Ну, что ж, Сайрэ будет попом. А Косчэ-Ханидо на писаря, на моего помощника будет учиться. А тебя люди растопчут ногами.
— Ладно. Кто будет попом — все равно. Только если тебе это важно, то давай сговоримся: пусть Косчэ станет попом, но ты мне за это Халерху в жены отдашь. У меня на нее живот чешется…
— Что-о? Халерху? — не пересилил наглости Пурама. — А ты не хочешь в тундре замерзнуть? Как старый шаман Сайрэ?
Кака растерялся: это угроза или намек на безрассудство, которое может кончится плохо? А пока он думал, Пурама приготовил ответ:
— За Халерхой следят молодые ребята. Они убьют тебя, если ты к ней подойдешь.
Шаман закрыл глаза, постоял молча, потом вкрадчиво заговорил, будто рассуждая сам с собой вслух:
— …Да, последним, кажется, не я заходил к Тачане… Ты заходил… Помню… Но ты еще раз хотел к ней зайти, а у нее отнялся язык…
— А что же ты духов не подослал? — прервал Куриль его воспоминания. -
Они же у тебя первые сплетники! Против меня затевал дело, а за мной не следил. Да дело-то какое — самое важное!.. Не шаман ты, Кака. И знать ты не мог и не можешь, что юкагирка сказала мне — голове юкагиров. А вот тебе мое последнее условие…
— Бей меня, Куриль, бей! Топчи, как хочешь, меня!
— Тебя при людях Косчэ будет бить — не я. Как раз такое условие. Он будет бить, а ты будешь молчать. Люди подумают, что Косчэ тебе мстит за сплетню. Вот тогда и совсем помиримся. Договорились? Ты стерпишь, если не хочешь попасть в темный дом и на войну…
— Я уеду сейчас, Апанаа…
— Поезжай. Может, Потончу встретишь? Тебе дать бумагу, чтобы он прочитал? Только обратно отдай!
— Не надо. Сожгу я ее. Или… Ну, гок — поехал!
— В дороге, Кака, подумай: может, бросишь шаманство? Сожжешь бубен — я тебе почет и славу выхлопочу.
— Шаман я. А бога нет. Да что же это был бы за бог, если бы он заставил людей меня почитать! Ты чепуху говоришь, Куриль. Ну, гок! Поехал. В тордохе напротив — прислужник мой. Он сделает все. Я скажу. А чай жены сейчас принесут.
Был уже вечер. Кака в свой тордох не вернулся — уехал.
…За шаманским пологом было тепло и уютно. Ветер стучался в ровдугу, но каркас шаманской яранги стоял очень крепко, так крепко, что даже жирник не вздрагивал. И все-таки здесь, за пологом, было не очень спокойно: легонько покачивались деревянные духи, подвешенные на нитках, и тени от них будто брали разгон, чтобы бежать куда-то — за своим хозяином, что ли?
Куриль и Пурама лежали под одеялом. Они наелись, напились и покурили.
Оба они сильно устали, но — удивительно — не засыпали. Мир сплошного вранья и угроз, хитросплетений угроз и вранья не выпускал Куриля на свободу. А
Пурама думал о боге: неужели и божий мир держится на вранье, неужели бог не умеет сам наказывать зло?
ГЛАВА 11
Слухи о скором крещении тундры взбудоражили всех — от смышленого малого до несмышленого старого. За время отсутствия Куриля эти слухи обросли нелепыми домысла ми, что уже и нельзя было понять: приезжает ли поп Кешка из Нижнего или вот-вот спустится с облаков на улурскую землю сам бог.
Перемешаться правде и чуду помогало и то, что с событием и впрямь оказалась связанной судьба богатыря и красавицы: Ханидо и Халерха были и придуманными, сказочными и в то же время живыми.
Как бы то ни было, но Халерха опять очутилась в центре внимания, только теперь уж прочно и неотступно. Внимание к ней обострилось не только по той причине, что по всем тундрам жили ею отвергнутые женихи. Тревожные вести поползли о ее судьбе. Очень хотелось людям — простым людям, конечно, чтобы в этот год шестая луна не была для нее коварной. С нетерпением ждали возвращения Куриля, который должен сказать, что шаман Кака всего-навсего зло пошутил или подурачился глупо, по пьянке. Но видно, тундру кто-то проклял на вечные времена. Пока неуверенно ожидали добрых вестей, случилась беда — беда определенная, неотвратимая. У Халерхи умирал отец.
В последние годы Хуларха стонал все чаще и чаще, особенно по ночам. И Халерха постепенно привыкла к стонам. Ей даже становилось не по себе, когда боль отпускала его — ей не хватало голоса единственного родного человека, отца, потому что если он стонет, то, значит, живет… Уже больше трех лет тордох Хулархи стоит на одном и том же месте: с больным, не ходячим отцом хозяйке-дочери не до кочевки. Голодное время было три года назад, и многие старики и старухи завидовали Хулархе: он мог уехать в тот мир легко — но сравнению с ними, здоровыми, но голодными. Хуларха, однако, не умер: болезнь не одолела его, а от голодной смерти спасли брат Хулур, Пурама и прочие люди, приносившие то бульон в кружке, то кроху мяса. Много ли еды надо больному! И Халерха, деля с отцом милостыню, исхудала, сделалась белой, как снег, но не опухла, не умерла… Потом Хуларха болел как-то попеременно: иногда, получив угощение — пару глотков горькой воды, он приободривался, даже вставал, но иногда по ночам он так громко стонал, что люди потихоньку просили бога впустить несчастного в мир его предков.