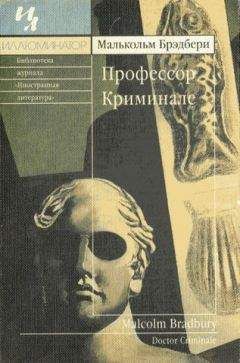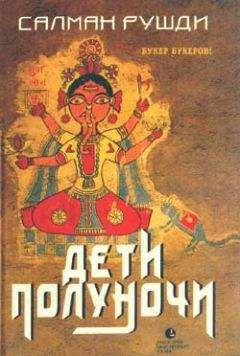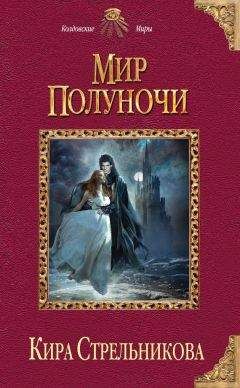Сергей Самсонов - Проводник электричества
Отец не заглотил крючка с жирной наживкой операции, митомицина, надежды дожить до испытания нового агента; бессмысленному этому, бессильно-конвульсивному цеплянию за локти призраков он предпочел естественный процесс, без костылей, без сладких успокоительных пилюль — он выбрал жизнь, ту, что осталась. Вне всякого сомнения, он был в своем поступке, вот в этом инстинктивном движении гораздо ближе к зверю, бросающему стаю и уходящему в самую глубь чащобы умирать, нежели к человеку… и это было страшно, и в этом было — пробивалось сквозь белый шум отчаяния, задавленно-утробное вытье — спокойное и строгое достоинство.
Вернулся в институт преподавать и оперировать, давать концерты при большом стечении студентов, которые не отрывали глаз от твердых, точных рук снедаемого раком еще не старика. И это продолжалось декабрь, январь, февраль… — не поддающееся пониманию, нереальное: что не отдал отец болезни ни пылинки своего обыкновенного могущества, не изменил режима, ритма, образа, ничтожной долькой не отступился от лица — будто зажал в кулак весь рак, весь страх, сдавив с такой силой, что панцирь люто-жирого лишь жалко хрустнул в сведенных намертво тисках.
Будто прошло само, будто и не было в помине — семейная их жизнь опять вращаться стала вокруг того же несгибаемого стержня; отец опять воссел крепко и прямо во главе стола, и жесткий взгляд его вновь сделался будто причиной появления и снежной скатерти, и золотого меда, и жирного куска говядины в дымящейся супнице, и всех тяжеловесных, прочных, похожих на отца вещей, стоявших в доме непоколебимо и работавших исправно.
Камлаев был давно уже непроницаем для упования на чудо; нет, яды знания и соли памяти давно уж проточили в его мозгу, сознании ноздреватые ходы, сквозь них ушла, бесследно испарилась нерассуждающая детская потребность в справедливости, осталась только рационалистическая активность мозговой коры: так соблазнительно-легко поверить в то, что лишь одной железной воли хватит, чтоб навсегда остановить движение метастазов вверх… вот это остается человеку предпоследним, когда уже испробованы все таблетки, все инстилляции, все панацеи, за этим — только Бог и обещание воскрешения в телесном облике в конце времен на Страшном… а оглашенным, не воцерковленным — лишь эта вера в личный подвиг, в творящее сознание человека, в преодоление собственными силами, без вышнего пригляда. Людишки, быдло любят про это почитать и посмотреть документальное кино — про то, как кто-то был прикованным, перекореженным, полураздав-ленным — скрипел зубами, жал железо от груди, навечно запретив себе расклеиваться, падать тем самым пресловутым духом; им кажется, что если кто-то смог, Мересьев, то и они, конечно, так же смогут — сказать себе «встань и иди»… вот это ощущение причастности, сознание, что ты одной с Мересьевым природы, нам это свойственно — распространять чужое мужество и на самих себя, наивно принимая чужой подвиг за проявление общечеловеческого толка.
Но вот отец — будто и в самом деле из другой был глины; еще немного, и казалось, бульдозером подвинет камлаевское знание, что карциному не убить, и вновь они все — мать, Мартышка, Эдисон — свободно заживут… но ближе к марту отец вдруг начал все-таки сдавать — уже не мог сидеть по пять, по шесть часов над вскрытым черепом и отделять бестрепетной рукой желто-красную, размером с желудь, опухоль от чистых тканей млечно-голубого мозга, так, чтоб возобновить, продлить в прежнем объеме и с прежней скоростью несметь таинственных процессов превращения материи в сознание.
Боль подступила, гнула и ломала — какая? как? Не передать, никто не мог почуять; у человеческого тела воображения нет — чужого не представить, происходящего с другим; поймешь, когда лишь самого нанижут на шампур.
Отец сносил начавшийся в нутре пожар недвижимо и молча, без видимых мимических усилий, но и руками в полной мере более командовать не мог; на дление кратчайшее терял координацию немевших нервных окончаний, ручищи становились на мгновение протезами — какой уж тут может быть «арбалетный разрез»?
— Осуществился самый худший вариант, какой я только мог предположить, — сказал он Камлаеву, — я не могу работать. Глупее и позорнее состояния не придумать.
— Какой позор? — Камлаев только это мог. — При чем тут, где?
— Еще увидишь, — пообещал отец. — Готовься. — Он знал, что говорил.
7
Кнопка звонка, как будто выпрыгнув из косяка с осколками чумазой штукатурки, болталась на проводе; стараясь не притрагиваться к нерву, Камлаев взял в пальцы сей выбитый глаз и размечтался, загадал, какие будут кадры там, за дверью, в сибуровской огромной мастерской. Хотелось редких экземпляров — будто из Красной книги, исчезающих или, напротив, только народившихся. Он к монументам равнодушен был — «кладбищенский гранит», «удвоение трупа», — но все же был завсегдатаем этого подвала: во-первых, потому что ставил высоко Мартынову способность устроить грандиозный карнавал, одновременно древний, как курган, и юный, будто первые весенние листочки… а во-вторых, поскольку собирались тут, у Мартына, мировые крали — чтобы поставили их здесь на пьедестал и поискали, чего бы лишнего у них отсечь.
Стояла полумгла, всю мастерскую будто наводнял туман, особый, ровный, однородный, без лохм, клочков, похожий на ничто, на пустоту перед Творением; пространство было загромождено округлыми могучими телами скифских баб — пузатых, растекающихся к бедрам — будто бы вечно беременных богинь, вестимо, плодородия; как будто идолы давно исчезнувших народов столпились тут; как будто рыхлые, похожие на восходящую опару первосущества еще дремали, грузно пухли в утробе матери-земли, и гнетом недр и внутренним усилием прорваться, протолкнуться на поверхность творилась форма их, и пребывала в вечном изменении неостывающая магма.
И мускулистые гимнастки, и комиссары в пыльных шлемах, и астронавты, вышедшие в космос, и кочегары с кочергами, которых он, Сибур, ваял в порядке госзаказа для исполинских, монолитного бетона, Дворцов Советов и Труда, напоминали больше мощных и массивных, налитых спесивыми соками юных божков, которые как будто только-только оторвались от мантии и выперли из преисподней.
Вот эта прущая, как каша, как квашня, неукротимая, голодная и первобытно-жадная витальность, вот эта шевелящаяся масса, еще не скованная гармоническими контурами, еще пока что не разъятая на тьму отдельных лиц, и впечатляла Эдисона у Сибура, так что он даже грезил закатить совместную с Мартыном мистерию «Начало Света», да только кто бы допустил их на советские подмостки, достаточно просторные и прочные, чтоб выдержать такие тектонические сдвиги.
Между скульптурных этих напряжений пылились проржавевшие останки какой-то будто сельхозтехники — корявые уроды, собранные мастером из металлических обломков и обносков большой советской индустрии; похожие на декорации научно-фантастического фильма о выжженной пустыне безрадостного будущего, все эти сочлененные Мартыном в видимость полезного работающего целого лопаты, шатуны, маховики, карданные валы, цилиндры, радиаторы лишь имитировали некую функциональность и не могли служить на самом деле ничему — опасная идея для фанатика прогресса, железный «стоп» для исповедника всесилия человеческого разума.
В глаза ударил яркий белый свет, и в свалке, толчее гранитных баб и ржавых монстров Камлаев, как в лесу, нашел просторную поляну: пир шел горой, прям на полу, на двух коврах, была раскинута бордовая, с кистями скатерть-самобранка; лобастый профиль Ленина был совершенно скрыт огромным блюдом с дымящейся горой оранжевого плова, и рядом нежно-алый был редис, и исполинский лук, и стопка лавашей, и, как Арагви и Кура, тек золотой коньяк, и кадры, разумеется, расслабленно пластались на коврах, полулежали на подушках, как в серале… живая статика лодыжек, бедер, животов, прикрытых глаз, надменно вскинутых голов.
Он всем салютовал, обнялся с коренастым, кубическим Сибуром, уселся по-турецки, взял стакан; заговорили о «Начале Света», о симбиозе жанров и искусств, о травестии театрального, концертного священнодействия… он говорил и взглядывал поочередно всем кралям в ждущие пугливые глаза, и попадались только яркие стекляшки, пришитые к тряпью… ничего интересного… ага, вот эта только царапнула зрачками, выжгла на дне глазного яблока свое лицо, такую смуглую печальную мордашку как будто олененка Бэмби. Смотрела отчужденно-оскорбленно-настороженно-испуганно, и бес скакал в глазах, как отблески пожара в тюркской степи. Смотри, еще воротит нос от первосортной человечины. Ну, ничего, сейчас мы эту спесь собьем…
Камлаев, выпив, фаловал на танец девку, обыкновенную, смешную, толстожопую, немного недобравшую до пародийного кустодиевского типа, которую наш олененок и не думала, что он, Камлаев, пригласит.