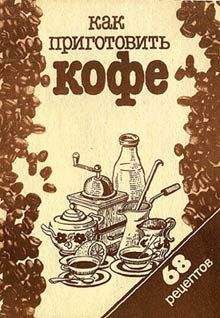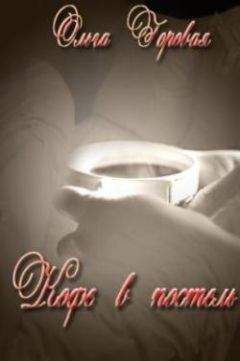Олег Юрьев - Прогулки при полой луне:
«Слыхал? — остановил меня через пять лет на бедуинском рынке в Беэр-Шеве малоизвестный палестинский драматург. — Розеноер прирезал-таки Алиску». — «Как? — спросил я. — Насовсем?» Драматург потыкал заостренной палочкой страшные морщинистые пахи свежеосвежеванной верблюдицы и с сожалением покачал головой в мелкошахматной куфье: «Не-а, не совсем». Верблюдица — странно, такая громадная и насыщенно сизо-алая — закачалась на крюке, зацепленном за расщепленный борт рыжего грузовичка.
Или закат это уже был?
Шестой ленинградский рассказ
Циця решил стать андрогином, но не в грязно-обиходном смысле этого слова, а в чисто-платоновском. Для достижения целокупности Циця записался за 14 рублей помесячно в подпольную секцию йогической аэробики при Дворце культуры железнодорожников. Ему нужно было возможно скорее сделаться как гуттаперчевый мальчик, чтобы свободно давать себе в рот. Без йогической аэробики он не дотягивался даже до курчавой серой пенки вокруг подбородка (очень мешал мгновенно круглевший и отвердевавший маленький каучуковый живот), и целый день после того глухо и сладко потягивали мускульные клинья с обеих сторон позвоночника. А после четырех занятий Циця сравнительно уже легко помавал себя по губам, но — к несчастью — Платон не знал того, что знал к несчастью Платонов — а именно, что хули не гули, в рот не залетят, — поэтому Цицю на самом восходе его андрогинной карьеры окостенил радикулит. И он спал сидя. И мы с девушкой, похожей на кожаный веник, ездили под землей на качком электрическом поезде его навещать. Все одно нам нужно было дожидаться ухода полковника на всенощную. Мы сидели, смирно поезживая ягодицами (она — почти никакими, цыганскими) по жирному зернистому дерматину продольной вагонной лавки, и разговаривали о том, как ближайшим же летом совместно поселимся в Пярну. Я об этом со всеми зимними девушками разговаривал, но ни с одною — на что бы она ни оказывалась похожа — так ни разу и не съездил, только лишь их на метро катал. А жаль. А может, и не жаль: летние девушки зимою слабо грели — наверно, и зимние летом не освежали бы.
Над нами ветер гонял по голому черному асфальту шары, спутанные из седой паутины, а на перекрестках, приседая и поднимаясь, стояли в опрокинутых фонарных кратерах отливающие желтым волчки. Всё это немножко выло и потрескивало. Немножко воя коротким горлом и потрескивая искрящейся папироской, каталась по длинному полутемному коридору Цицина мачеха, Рашель Семеновна — низенькая хищная голубка с подпрыгивающими на спине шелковыми кистями сизо переливающейся шали. Циця сидел на кушетке, обмотанный клетчатым пледом, и читал Гёльдерлина. Цицин же отчим на антресолях над нами скрипел, щелкал, чмокал и гулькал. Толстые голуби, утопившие костяные головки в курчавых тройных воротничках, из неосвещенных деревянных клеток ему несогласно отвечали своею нескончаемой блатною песней без слов.
Мы сидели у Цицина полуложа, прислушиваясь то к коридору, то к потолку, а сами думали: я: «Ушла ли уже полковник в германдаду?»; девушка, наклоня гладкую черную голову: ничего; Циця: «Нет, никогда ему все-таки не сделаться андрогином!» (обо мне). Рашель Семеновна укоризненно внесла чай — а она думала, что это я виноват во всех Цициных несчастьях, а виноват-то был не я, Прохор Самуилович был виноват, открывший моду на андрогинаж и самопознание.
— Я вас провожу, — неожиданно сказал Циця и сидя встал. Плед обвис на нем.
— Котик, — закричала из далекой-далекой кухни мачеха. — Константин! Немедленно вернись! Ты упадешь с лестницы и разобьешься!
— Циця, — сказал я, — тебе, пожалуй, надо не Гёльдерлина читать, а Китса.
Циця посопел-посопел и, как приземистая курносая Баба-Яга над печной заслонкой, заорудовал поднятыми из-под пледа руками над выходной дверью. Девушка (с налитыми усердной слезой залужёнными кнопочками глаз) втискивала свои многочисленные тонкие ноги в длинные блестящие сапоги. Наконец, втиснула и вопросительно повернула ко мне плоское личико с намертво приклеившейся ко лбу вороной гладкостью. Я уцепил ее за замшевую шкирку и за ворсистые крупные складки под коленками и поповорачивал в воздухе, поспособнее примеряя к дверному проему. Я, понимаете ли, везде носил ее на руках, чтобы под ногами не путалась. «Головой вперед», — посоветовал Циця. — «Ты думаешь, она с головы уже? — спросил я. — Или ты суеверный?» — «Конечно, я суеверный», — с гордостью отвечал Циця.
Циця трусил рядом со мной — согнутый, с охвостьями пледа, высунутыми из рукавов и из-под подола его пролысой рыжей шубки; — как будто я мало того, что несу поноску, но при том еще и выгуливаю какую-то небольшую старую собаку, типа, предположим, эрдель-терьера. Снег остановился: на асфальте изогнутыми бороздками, на деревьях — прерывистыми узкими полосами, а в воздухе — редкими рядами частых сеток поперек Кронверкского. «Пошли завтра в зоопарк? — спросил Циця снизу. — Покатаемся немножко на пони». — «А ты не упадешь? Меня твоя Рашель Семеновна на крохи говенные размечет, а отчим турманам скормит», — и я дунул на девушкину голову, чтобы отдуть свесившуюся ровную прическу, заслонявшую мне вид на Цицю. Моя девушка мальчиковая обеими руками схватилась за лоб (так я никогда этого лба и не увидал, хотя, тем не менее, очень сомневаюсь, чтобы была на нем какая-то особенная каинова печать, скорее — судя по тому глубокому льду, что вообще пронизывал всю ее прямую узкую кость — новокаиновая блокада), но боковые и задние волосы на миг откачнулись, и стало видно, как Циця вместо ответа легкомысленно машет рукой, где-то уже в самом низу, у тротуара; — мы еще не дошли до Горьковской, а его, бедного, совсем скрючило. Но развеселился он отчего-то необычайно. Семенил все быстрее, подскакивал, хлопал в ладоши, спугивая мороженых голубей, теснящихся к густо парящему люку в мостовой. У кинотеатра «Великан» мы перешли дорогу и здесь, на широкой хрустящей и игольчато поблескивающей аллее (в конце ее неровно светилась летающая тарелка на вечном приколе), Циця, с его вечными приколами, и вовсе разбушевался — погнался, тоненько рыча и хохоча, за длинной драной кошкой, которая, в свою очередь, скакала, сжимаясь и разжимаясь, за полуободранным припадающим голубем. «Циця, Циця!» — закричал я насквозь девушки, наискось приоткрывшей для лучшей звукопроводимости неглубокий сиреневый рот. Но Циця мчался все быстрее, сгибаясь все больше, и вот, наконец, коснулся дорожки козырьком своей шерстяной кепочки с опущенными ушами и — покатился кувырком — колесом — шаром, вздымающим снежное пылево, — дальше, — за кошкой, сиганувшей вбок, по клеенчатому снегу, в сложную коленчатую тьму деревьев, и — мгновенье — исчез там вслед за нею. Только я и видел, что медленно обваливающиеся выбросы ледяного песка и дробленой земли; только и слышал, что оседающий на басы и отдаляющийся Цицин взвой. Потом все стало, как прежде, — нигде только не было вокруг ни Цици, ни кошки и ни даже ни голубя.
«Ну чего, ушла полковник в германдаду?» — спросил я у пожилого эрделя, поднявшего курчавый подбородок со скрещенных лап. «Мама уже ушла на работу», — огорченно сказала девушка, выйдя из спальни, и маленькими замерзшими руками начала расстегивать свои очень тугие и очень белые штаны.
Загородный рассказ
Фима Мордкин, который умер, все норовил отслоиться от моей правой руки и, как еврейский Есенин, обнять морщинистые колени какой-нибудь сосёнки или же влезть под дыряво-колючую юбочку ели, чтобы проникновенно прокричать в их пахнущую горечью и сыростью кожу Будь другом, насри кругом. Будь братом, насри квадратом. Будь сестрой, насри звездой. И расхохотаться в мелкие финские звезды, до сих пор так и не научившиеся по-русски. Особенно он гордился последней частью триптиха как своим личным изобретением. Вообще-то Фима был цыганисто мрачен и молчалив, но в этот день необычайно раздухарился, разухарничался, разохальничался — попросту говоря, наебухался, да так, что был изгнан из Репы до окончания срока путевки за дебош — вместе с восемью другими маленькими сердитыми евреями — и теперь ведом на дачу к отдаленным знакомым для переночевки. Из них умер один Фима, остальные уехали в Америку.
А левой рукой я волок Ильюшу Хмельницкого, который ничего не говорил, а только все падал. Поднимать крупного Ильюшу в гладком кожаном пальто из ямины, по-лосиному пропоротой им в поверху тонко засохшем (на манер розоватой нордовской меренги) снегу и так было бы нелегко, а тут еще ходи Фиму с соснами разлучай… Набитая сапогами и шинами дорожка вдоль железнодорожного перегона Репино-Комарово сверкала и скользила; морозная, но безветренная ночь предъявляла необычайную ясность и глубину вырезных теней в ослепительном снегу; с темно-синего неба звезды, как уже было сказано, не понимали по-русски, но низкая отчетливая луна, похожая на утреннее яйцо с ровно отрезанной верхушкой, наоборот, все понимала и плыла надо мной в своем колечке из взбитого света сострадательно.