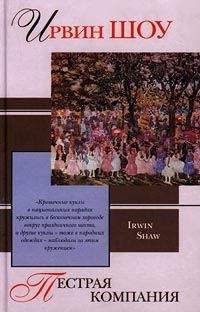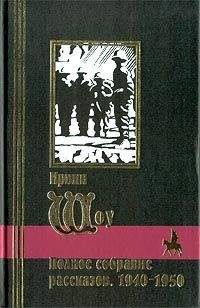Ирвин Шоу - Пестрая компания (сборник рассказов)
Ссора с Пегги за обеденным столом перед поездкой на аэродром произошла вот как.
— Я не желаю жить в одном доме с этой женщиной! — упрямо повторяла Пегги, когда Эмили умоляла ее позволить Айрин приехать к ним.
— Что же ей делать? — вопрошала Эмили. — Не забывай — ей уже за пятьдесят. У нее больше нет родственников — ни одной души во всем мире, кроме нас с тобой, — и только к нам она может обратиться в случае беды.
Пегги неожиданно разрыдалась.
— Всякий раз, как смотрю на ее фотографии, — призналась она, — начинаю думать о Баде, о том, как он тонул в этой немецкой реке… Не понимаю, почему я должна со всем этим мириться?! Кровное родство, кровь и плоть… При чем здесь все это, скажи мне на милость?..
— Пегги, дорогая, она ведь изменилась, — говорю тебе. Это сразу видно по ее письмам. У нее все теперь в прошлом. Ты должна простить ее, должна!
Эмили тоже расплакалась, вспоминая все свои трагические заблуждения, не оставившие никакой светлой надежды события, тяжкое прошлое, скорбные могилы близких, царившую повсюду ненависть, разбитые вдребезги упования…
При виде материнских слез, этого сморщенного, старческого, изможденного лица со следами безутешного горя, Пегги неожиданно смягчилась, обняла мать, постаралась утешить.
— Ну, ладно, ладно, — приговаривала она, — успокойся, не надо плакать… Ладно, все хорошо… Пусть приезжает! Если она в самом деле изменилась — пусть приезжает.
После завтрака под предлогом, что ей нужно в город за покупками, Эмили поехала в церковь и там долго, словно оцепенев, сидела молча. Через разноцветную мозаику окон прямо на нее сочились мягкие, солнечные лучи, высвечивая ее глубокие религиозные чувства. Она с воодушевлением молила Бога, чтобы Айрин и правда изменилась.
Эмили точно знала, была уверена, что долго не протянет, и желала прожить остаток жизни в уютной атмосфере незлобивости и любви, в одном доме со своими двумя пожилыми дочерьми, которые так хорошо начинали в жизни, питая большие надежды на блестящее будущее. Но, увы, все кончилось так неудачно: призрачные надежды рухнули, и теперь жизнь их стала совершенно иной. Пришлось им узнать, что такое одиночество, печаль, нищета, постоянно горько оплакивать свои утраты, страдать от мучительных воспоминаний о погибших.
Сигнальные огни на взлетно-посадочной полосе посылали вверх, в гущу тумана, слабые, словно разбавленные водой блики. Гул самолета становился все слышнее, и вот Эмили вдруг увидела — огни его неуверенно выскользнули из густой белесой темноты. Самолет занесло в сторону, он резко застопорил ход; двигатели нервно загудели, когда он наконец тяжело плюхнулся на полосу и заскользил по бетонке, касаясь ее краем крыла, потом снова подпрыгнул вверх, в воздух, и опять, еще более неуклюже приземлился на бетонку; выпрямился, выровнял крылья, совершил какой-то безумный полуоборот — и остановился, замер прямо перед ними…
Двигатели заглохли, винты крутились все медленнее, выбрасывая на кожухи бледные, разноцветные фонтанчики какой-то жидкости. Эмили глубоко, с облегчением вздохнула.
— Ну вот, все в порядке, мама, — сказала Пегги. — Они благополучно приземлились.
— Вот теперь мне бы поскорее присесть… — прошептала Эмили.
Пегги медленно повела ее вдоль ограждения к скамье у выхода — туда должны направиться пассажиры. Эмили тяжело опустилась на скамью, чувствуя, как дрожат колени под шерстяным плотным костюмом.
Служащие подогнали к самолету трап; широко отворилась дверца, и пассажиры стали выходить из салона.
— Какой позор! Какой кошмар! — возмущалась одна из пассажирок, спускаясь по трапу на землю. — Просто чудо, что мы не разбились!
Ручеек пассажиров, человек восемь — десять, медленно прокладывал себе путь к выходу. Три женщины, пятеро или шестеро мужчин… Эмили с тревогой изучала лица, пытаясь разглядеть, какое из них — лицо Айрин. Вот довольно молодая женщина с ребенком на руках… Нет, это явно не Айрин. Две другие куда старше ее; фигуры обеих точно такие, как у ее дочери… Вышли на полоску неонового света… Эмили нетерпеливо встала со скамьи и, вытянув шею, напряженно вглядывалась… Пегги не выпускала ее руки из своей. Нет, эти лица ей не знакомы! Эмили повернулась к Пегги, спросила:
— Ты ее видишь?
Пегги покачала головой. Одна из прибывших, прекрасно одетая, вышла вперед. Она улыбалась Эмили, и та улыбнулась в ответ. Боже, ведь это же Айрин, а она ее не узнает, — родная мать называется… Но пассажирка прошла мимо, и ее заключил в крепкие объятия крупный молодой человек, который стоял у них за спиной и только повторял:
— Боже мой, мамочка, не заставляй меня больше так волноваться!
Еще одна женщина только что спустилась с трапа самолета и стояла в ярком неоновом снопе света возле выхода: одета бедно, неряшливо — потрепанное пальто с потертым бобровым воротником; ей явно не меньше шестидесяти; лицо круглое, все в морщинах, хмурое, недовольное, раскрасневшееся от ледяной стужи.
— Пегги, — Эмили сильно нервничала, — может быть, обратиться к стюардессе…
— Минутку, — пробормотала Пегги, — по-моему, эта женщина…
— Просто отвратительно! — громко жаловалась неряшливо одетая женщина господину, стоявшему рядом с ней. — Какая тошнотворная волынка! Надо же, так рисковать жизнью! Ну и страна, доложу я вам! Могу заверить — такого никогда не произошло бы в Германии! Америка называется! У нас каждый аэродром еще в тридцать седьмом был оборудован установками для борьбы с туманами. Просто отвратительно!
Эмили почувствовала, как Пегги сдавила ей руку. Женщина в потрепанном пальто еще раз оглянулась по сторонам с презрительной миной, скользнула взором по лицу Пегги…
— Должно быть, меня вон там ждут, — сообщила она своему собеседнику и бодро зашагала к выходу; грузная фигура ее все больше растворялась в темноте.
— Пегги, окликни ее… — попросила Эмили, боясь потерять эту фигуру из вида. — Пегги… — Как трудно говорить, язык не повинуется, он неподвижен, застрял во рту. — Кажется, это твоя сестра Айрин…
— Да, вижу, — отозвалась Пегги. — Какие могут быть сомнения!
Только теперь до Эмили дошло, что дочь не позовет сестру — не позовет никогда…
— Айрин!.. — слабым голосом крикнула Эмили. Потом чуть громче: — Айрин! Мы здесь!..
Темная фигура выступила из плотной туманной мглы, повернулась и не спеша направилась к ним. С каждым шагом она становилась все более реальной Айрин, все больше похожей на нее…
— Сюда! К нам! — сквозь слезы кричала, как могла, Эмили. — Добро пожаловать домой!
Однорукий
— Мне хотелось бы завершить донесение об этой троице. — Капитан Михайлов через стол протянул клочок бумажки Гарбрехту.
Тот взглянул на имена.
— Переводчики в отделе по гражданским делам в американском штабе. У американцев очаровательная привычка — нанимать на такую работу исключительно бывших нацистов. Как нам кажется, неплохо бы заглянуть в прошлое этих джентльменов. — И Михайлов улыбнулся.
Улыбка этого коренастого, невысокого человека, с круглым, замкнутым лицом и белесыми, неулыбчивыми глазами, напоминала цветок, выбитый неуверенной рукой ваятеля на камне.
Гарбрехт знал двоих из них: Михайлов прав, они бывшие нацисты. Однако придется основательно подумать, рассказать ли о них Михайлову, а если рассказать, то как много и что именно. Пока что он внимательно наблюдал, как Михайлов, отперев ящик своего стола, вытащил оттуда пачку американских оккупационных марок и методично, своими прямыми, ловко, как рычаги работающими руками, отсчитывает купюры; закрыл ящик на ключ, пододвинул деньги Гарбрехту.
— Этого вполне достаточно, чтобы вы протянули до следующей недели. Потом увидимся.
— Слушаюсь, капитан! — Гарбрехт накрыл ладонью деньги, подтащил поближе к себе, к самому краю стола. Вынул бумажник и стал медленно, одну за другой, аккуратно вкладывать туда купюры. Действовал он неловко и неуклюже, ибо пока не научился шустро работать левой рукой; его правая была зарыта во дворе полевого госпиталя, расположенного на пивзаводе, за тысячу четыреста миль отсюда.
Михайлов равнодушно взирал на его суетливые движения, но помощь не предлагал. Спрятав бумажник, Гарбрехт встал, взял пальто, наброшенное на спинку стула, с трудом натянул на плечи.
— Итак, до следующей недели.
— До следующей, — отозвался Михайлов.
Гарбрехт не отдал ему честь; открыл двери и вышел. Спускаясь по грязным ступеням и проходя мимо двух субъектов в штатском, маячивших в темном холле, он думал с каким-то нервным ощущением триумфа: «По крайней мере, я не отдал честь этому подонку. И не делаю этого уже третью неделю подряд».
Субъекты в штатском уставились на него невидящим, но угрожающим взглядом. Теперь он их слишком хорошо знал и больше не боялся. Они так смотрели на все, что их окружало. Если перед ними стояла лошадь, крутился ребенок или лежал букет цветов — они на все это смотрели с угрозой в глазах. Просто такой была удобная для них, отработанная ими притирка к этому миру, — в точности как улыбка у Михайлова. «Эти русские, — размышлял Гарбрехт, шагая вниз по улице, — такие мерзкие люди — и вдруг в Берлине!»