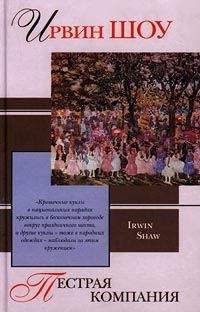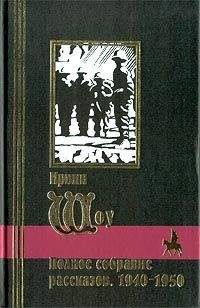Ирвин Шоу - Пестрая компания (сборник рассказов)
Двери диспетчерской снова отворились, вышел мужчина без головного убора. Постоял, печально вглядываясь в темное небо с несущимися низкими свинцовыми облаками, откуда доносился натужный гул самолетных двигателей. Безрадостно покачал головой, вернулся в помещение; двери за ним захлопнулись, гулко и печально, в этой туманной пелене.
«Ну а взять эти бракосочетания, — думала Эмили. — Сколько же я, старая женщина, повидала их на своем веку! Сколько счастливых невест, сколько ярких цветов, сколько радушных гостей!..»
Айрин, в белом атласном платье, в церкви на Двадцать четвертой улице — ее потом снесли. Какой триумф, какой вызов постоянно мелькали в ее глазах, с какой гордостью она разглядывала приглашенных — совсем не так, как полагается вежливой, радующейся такому событию невесте. Пегги, в красивой желтой тюлевой накидке, как ближайшая подруга невесты; у нее темные круги под глазами, как будто она не спала несколько ночей подряд.
Бракосочетание Пегги полгода спустя. Ее жених — Лоуренс, очень красивый, высокий, с продолговато-угловатым, честным, добродушным лицом. Айрин на свадьбе не было, она уже уехала в Германию, но прислала по случаю бракосочетания сестры длинную поздравительную телеграмму. Пегги ее вскрыла сразу же, первой из всех дружеских посланий, потому что знала, от кого она, и, прочитав, передала Лоуренсу.
— Это от моей сестры, — объяснила она. — Шлет нам свои поздравления и благословляет нас с тобой. У них скоро будет ребенок, советует нам последовать их примеру. Она также просит прислать ей твою фотографию.
Лоуренс, широко улыбнувшись, засунул телеграмму в карман. Долго она пролежала у них в доме в одной из картонных коробок, где целые годы хранились все телеграммы и письма, покуда в доме не объявилась новая горничная и не выбросила прочь весь этот хлам.
Самолет теперь медленно кружил над головой, совершая вслепую облеты над аэродромом; тяжело вздыхая, Эмили прислушивалась к его гулу, — эти звуки наводят ее на мысли о злом фатуме. Если бы Пегги получше узнала этого немца, проявила свою сообразительность; если бы Айрин не была такой самоуверенной, такой проницательной и хитроумной… Тогда, быть может, сегодня Пегги сидела бы в этом несчастном самолете, в этой болтанке в ночной, непроглядной, туманной мгле, а Айрин стояла бы рядом с ней, вся замерзшая, с плотно сжатыми губами… Ах, если бы Пегги не привела тогда в их дом этого человека! Или Айрин не было бы в тот вечер дома… Как же она старалась всегда проявлять разумную заботу о своих девочках; как оберегала, направляла их, руководила ими; как пыталась изменить, вылепить по-новому глину текущих событий!
И вот теперь, в семьдесят лет, ей приходится стоять на этом аэродроме, без сил, опасаясь грозной случайности, — так обанкротившийся азартный игрок подвигает последнюю свою жалкую фишку к безжалостной лопатке крупье, живо ерзающей взад и вперед по расчерченной на квадраты крышке стола.
Сколько лиц она помнит; сколько уютных комнат, в которых была когда-то счастлива; сколько всего ужасного, что приключилось с ней! Среди неясных, лишенных резких очертаний образов, которые постоянно всплывали у нее перед глазами, больше всего досаждали ей письма. Отлично помнит, как они все выглядели: иностранные марки, беглый почерк Айрин, с крупными, размашистыми буквами; большие, плотные серые конверты, иногда даже запах ее духов — каким-то образом сумел сохраниться в продолжительном путешествии по воздуху через океан.
«А это — наш Ганс». (Как странно звучит имя ее внука — Ганс, ведь в их семье всех мужчин обычно называли Джоном, Питером, Люком или Томасом.) «Он немного похож на Бисмарка, но мы искренне надеемся, что, когда ему исполнится три годика, это сходство пройдет». Или: «Дела у Рейнольда идут не слишком успешно, но кто может похвастаться лучшей участью в этой бедной стране? В общем, мы стараемся не жаловаться. У Ганса прорезались семь зубиков; мы перестанем, наверно, их считать, когда ему стукнет десять». Или: «Дитрих весил целых десять фунтов, когда появился на свет, и его рождение было связано с небольшим скандалом в этой голодной стране, словно мы воровали еду или брали взятки. Я настояла, чтобы его назвали Дитрих Джонатан, в честь нашего папочки, а все его родственники, типичные пруссаки, возмущенно поднимали на меня брови, но я им так и не уступила, ни на йоту. Думаю, когда возвращались домой, бурчали: „А чего еще можно ожидать, если в жены берут американку?“» Или: «Прошу вас, пришлите мне, пожалуйста, фотокарточку Бада, — он теперь, уже, вероятно, не умещается на своем коврике из медвежьего меха? Если вы не пришлете нам несколько его снимков, то немецкие тетки страшно удивятся, когда наконец его увидят и убедятся в том, что он уже не лежит голенький на своем животике».
Но тетки с племянником так никогда и не встретились.
Когда в 1936 году Айрин написала, что Рейнольд приезжает на три месяца в Америку, в престижную командировку от газеты (добавив, что он не сможет взять с собой мальчиков — пусть спокойно продолжают учебу), Пегги сменила интерьер в комнате для гостей в своем доме — наклеила новые обои, с крупными, в полном цвету, розами, и постелила новый ковер, с голубым ворсом. Научила Бада говорить по-немецки: «Доброе утро, тетя Айрин и дядя Рейнольд», и еще одну фразу: «Как поживают там мои тетушки? Надеюсь, что хорошо». Баду уже исполнилось двенадцать, и он страшно гордился своими лингвистическими успехами и даже самостоятельно научился произносить по-немецки «до свиданья» и «моему папе очень нравится мюнхенское пиво».
Эмили даже сейчас, в этом промозглом тумане, улыбнулась, вспоминая смешного Бада, в потертом старом свитере и грубых, белых, длинных парусиновых брюках, — как он стоял, широко улыбаясь, посередине комнаты и медленно, отчетливо произносил по-немецки фразу о том, как его папе нравится мюнхенское пиво.
А вот тот день, когда они приехали, вспоминала с трудом. Тридцать шестой год давно миновал, и сколько с тех пор произошло разных событий! Очень красивый немецкий белый пароход, — кажется, он назывался «Европа», с высокой, парящей в воздухе палубой, нависавшей будто прямо над улицей, — остановился у пристани Нозерн-ривер. Играл оркестр, — интересно, что он играл тогда, в тридцать шестом? Какую-то немецкую песню, но она ее не запомнила, хотя потом ей не раз приходилось слышать бравурные немецкие песни в «Новостях дня», рассказывающих о шумных парадах германской армии. Порывы ледяного ветра доносились до них с забитой ледяными глыбами реки. Бад, в только что купленном для него новом голубом пальто, правда, уже коротком ему в рукавах, пораженный величавым пароходом, шаркал ногами по пристани. Лоуренс держал Пегги за руку, улыбался им в ответ, его бледность говорила о том, что у него пошаливает здоровье. Пегги, с серьезным лицом, с сияющими глазами, пристально вглядывалась в трап, пытаясь поскорее узнать сестру. Вот идет высокая, эффектная дама, в меховом манто, с ярким, красивым, знакомым лицом… Эмили тогда подумала: «Эта женщина, должно быть, очень богата…» Потом до нее вдруг дошло: «Да это же моя дочь, Айрин!» Но все еще не уверенная в своей правоте, машинально стала рыться в сумочке, отыскивая очки. Рядом с красавицей шел низенький, плотный, начинающий заметно толстеть мужчина; когда он снял свою шляпу, Эмили поняла — да ведь это Рейнольд, только уже сильно облысевший…
В памяти ее словно открылись шлюзы, хотя она уже достигла семидесятилетнего рубежа… При встрече, конечно, много суеты, волнений, все по очереди целовались, все говорили одновременно, перебивая друг друга, громко смеясь. Но подробности все же ускользали от нее: как все на самом деле происходило, что говорила Пегги Рейнольду и какой у нее при этом был вид, заметила ли она на ее лице в ту минуту признаки давно пережитой боли и сожаления, — нет, этого ей не вспомнить… Отчетливо сохранилась в памяти только вечеринка.
В сущности, это не вечеринка, а настоящий званый ужин, — по крайней мере, так задумали Пегги и Лоуренс. Проходил он в полуподвальной столовой их дома, окна выходили на небольшой садик. Эмили сказали, что Рейнольд в последнее время процветает в Германии, его там очень ценят и он даже переехал в Берлин; к тому же у них с Айрин есть еще просторный загородный дом, где сейчас живут их сыновья. И она, Эмили, так гордилась этим радушным лысым толстячком! За обеденным столом он весь сиял, как новый пятак, был приятен и любезен с гостями, к каждому проявлял подчеркнутое уважение. Костюм у него, как и прежде, был старомодным. Сидел он рядом с друзьями Пегги и Лоуренса.
Вдруг на фоне мерной, гудящей беседы раздался резкий возглас Айрин:
— Гитлер? Конечно, я ему верю!
В столовой сразу стало тихо, а мистер Розен, партнер Лоуренса, осторожно положил свою вилку на тарелку, как будто вилка стала для него неподъемной ношей, а тарелка — чем-то неимоверно хрупким. А Айрин продолжала: