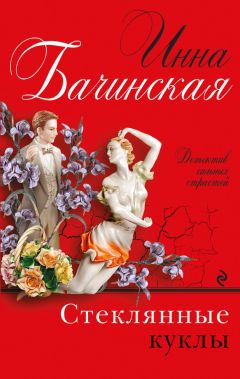Альберто Савинио - Вся жизнь
Lutti — Траур
Во время торжественных траурных церемоний полагалось не только надевать траурную одежду и выбривать голову, но и обрезать конские гривы, как это сделали фессалийцы по случаю смерти их полководца и освободителя Пелопида: вкруг тела его сложили они ворох всякого одеянья, снятого с противника; затем посрезали конские гривы и себе самим волосы посрезали тоже. Александр Ферейский пошел еще дальше: он не только повелел срезать гривы у коней и мулов, но также и на стенах зубцы, дабы и города казались плачущими и, как в старину, приняли бы стриженый и презренный вид (Плутарх. Жизнеописание Пелопида, 33–34). Всякое излишество есть смех. Смех — зубцы на крепостных стенах, смех — городские башни. Впредь я буду воспринимать Болонью и Сан Джиминьяно как «смеющиеся» города. Смех Турина — это шпиль Моле Антонелльяна; смех Парижа — Эйфелева башня. Смех непочтителен, поскольку являет излишек радости, а потому дразнит и оскорбляет. Возможно, именно в этом «истинная» причина того, что Мопассан терпеть не мог Эйфелеву башню и намеревался покинуть Париж, лишь бы избавить себя от созерцания cette vilenie[38]. Вот еще почему каноны градостроительства не допускают, чтобы одно здание возвышалось над другими; не очень-то приятно, когда повсюду хохочут. Посмотрите, как смеется крестьянин, человек древнейшего воспитания: он прикрывает рот рукой. Хорошее воспитание — это траур.
Madre — Мать
Рим, март 1944. Некто разыскивался полицией по одной из тех многочисленных причин, по которым в те времена люди разыскивались полицией. Однажды, когда он находился в доме своей матери, туда нагрянула полиция. Перепуганная горничная бросилась предупредить хозяйку, что в дверях стоят трое полицейских с автоматами. На что мать ответила ей спокойным голосом: «Скажите им, что моего сына здесь нет; об остальном я позабочусь сама». Полицейские не удовлетворились таким ответом и решили обыскать квартиру. Осмотрели все комнаты: ничего. Зашли в ванную: и там пусто. Однако в глубине ванной комнаты была еще одна дверь. Тогда один из полицейских поинтересовался, что там. Горничная ответила, что это дверь уборной. Полицейский рывком распахнул дверь, но тут же отпрянул с возгласом: «О, извините!» — и закрыл за собой дверь: на стульчаке сидела пожилая синьора. После того как полицейские покинули дом, разыскиваемый, которого мать поместила за дверью уборной, вышел из своего убежища. В данном случае поражает не столько смелость и хладнокровие этой женщины перед лицом опасности, сколько ее тонкий психологический расчет: она верно рассудила, что любой мужчина, даже если он полицейский, инстинктивно отшатнется при виде женщины, сидящей на стульчаке унитаза. Остается отметить то усилие, которое должна была сделать над собой пожилая синьора, чтобы задрать платье и сесть на стульчак в присутствии собственного сына. Но на что только не пойдет мать ради спасения родного дитяти?
Memoria — Память
Мы, итальянцы, говорим: «conoscere a memoria» — «знать на память» или «conoscere a mente» — «знать наизусть». Французы говорят: «Connaitre par coeur»[39]; англичане: «То have by heart»[40]. Что из этого следует? Что итальянец более склонен к умственной деятельности, чем француз или англичанин? Как бы то ни было, французская форма вызывает симпатию. Приятно, когда то, что мы знаем на память, то есть без помощи каких-то посторонних приборов или документов, мы знаем «через сердце», иначе говоря, любим; словно «помнить» означает «любить», как это, собственно, и есть на самом деле. В этом смысле английский даже точнее, так как to have by heart буквально означает «иметь в сердце». Иными словами, то, что мы помним, мы храним в самом органе чувств.
Musica (estranea cosa) — Музыка (начало чужеродное)[41]
Я видел, как дирижер упал с дирижерского возвышения. Дело было так. Я сидел в зале «Адриано» на своем всегдашнем месте — в девятом ряду, кресло номер девять. Мое кресло расположено прямо за креслом моего приятеля Габриэле. Голова Габриэле абсолютно аэродинамична, что позволяет этому выдающемуся психиатру развивать при беге очень высокую скорость. Строение черепа моего приятеля действует на меня столь притягательно, что каждое воскресенье во время симфонических концертов, как бы ни захватывала меня звучащая музыка, внимание мое постоянно переходит с плеч дирижера на череп Габриэле и обратно. Однако в то воскресенье мое внимание сосредоточилось исключительно на одном полюсе притяжения.
Сила очарования аэродинамической головы уступила куда более притягательной силе искусства молодого дирижера.
За дирижерским пультом «Адриано» я видел его впервые. Это был высокий и чрезвычайно худой молодой человек. Такая костлявая, всепоглощающая худоба обычно наводит на мысль о монашестве, аскезе, дьявольщине, магии и смерти. Он был втиснут в плотно облегающий фрак, будто вложенный в черные ножны человеко-кинжал. Длинную шею дирижера замыкал белоснежно-фарфоровый раструб воротничка. Его голова походила на голову Медузы Горгоны: длинные, черные как смоль волосы кишели на ней, змееподобно ниспадая на лоб и извиваясь перед глазами. Его конвульсивные движения напоминали судороги гальванизированной лягушки или неистовую пляску куклы-марионетки. Я был полон внутреннего сопереживания резким движениям этой медузообразной головы. Она казалась мне гигантским яйцом в руках у невидимой величавой хозяйки, которая трясет им около уха: не испорчено ли? Я боялся, что в результате этой невообразимой тряски мозг дирижера отделится от черепной коробки и начнет болтаться, точь-в-точь как желток протухшего яйца. Передо мной был гофмановский герой, чудом уцелевший персонаж «Крейслерианы», затерявшийся в этом мире рационалистов, где сами музыканты стали походить на счетоводов и упражняются в сочинительстве утонченно-птолемеевской музыки, то есть музыки холодной и рассудочно выстроенной. Дирижировал он без палочки, как будто палочка была для него помехой, препятствием, несуразностью. Его тонкие руки то взмывали, то опускались словно гигантские сухие листья, сорванные ветром, а пальцы вытягивались в невидимые нити и обвивались вокруг различных групп инструментов, подобно тому как жильные струны обвиваются вокруг колков.
Первым номером программы значился один из концертов Вивальди. Так как я опоздал к началу, то уже не мог войти в зал. Более того, из-за этого опоздания со мной произошел весьма странный случай. Вход в зал «Адриано» (вместо «вход» моя машинка напечатала «вдох»: неужели таинство каламбура подвластно и пишущим машинкам?) представляет собой двустворчатую дверь. За дверью на металлических кольцах висит плотная портьера. Так вот, приехав в «Адриано» уже во время исполнения Концерта Вивальди, я потянул на себя створку двери с намерением потихоньку проникнуть в зал и очутился в темноте между дверью и портьерой. Однако здесь я почувствовал, что из зала моему дальнейшему продвижению пытается воспрепятствовать билетерша. Положение мое было совершенно гамлетовским, а борьба через портьеру напомнила мне сцену убийства Полония. Возможно, я и одержал бы верх, но все же отказался от победы, дабы моя соперница не подумала, будто я намеренно затеял эту борьбу, чтобы пощупать ее сквозь портьеру. Снова, в который раз, моя природная застенчивость обернулась против меня.
Затем исполнялась Четвертая симфония Брамса, музыканта сурового и вместе с тем по-отечески нежного и сердечного. Какое предчувствие было у меня в тот момент? Позади дирижера на двух деревянных лакированных стойках с набалдашниками висел толстый шнур, и казалось, что сам подиум перенесен сюда из церкви специально для того, чтобы предохранять дирижера от падения. Во время первой части симфонии, по мере того как она распускала нежнейшие свои лепестки, я думал о том, насколько же безопаснее положение театрального дирижера: из оркестровой ямы торчат только его голова и плечи, точь-в-точь как у черепахи, выглядывающей из своего панциря. Я думал о дирижерах, управляющих оркестром сидя, как профессора во время лекций или как я сам, когда пишу очередную картину. Я думал о том времени, когда дирижеров в известном смысле вообще не было, а управление оркестром вверялось первой скрипке: она то звучала сама, то отмеряла такт с помощью смычка, то давала певцам сигнал к вступлению. Думал я и об оркестре «без дирижера», существовавшем некогда в России, подобно армии без генерала. Но прежде всего я думал о такой музыке, которая успокаивает, не пробуждает страстей, не опрокидывает вас волной звуков. А так как после симфонии Брамса в программе значились «Смерть Изольды», «Дон Жуан» Штрауса и еще несколько вещей столь же пылких и бурных, я невольно представил себе ровную и безмятежную программу, состоящую исключительно из менуэтов, рондо и паван. Стоит ли так безрассудно отдаваться на произвол музыкального ада?