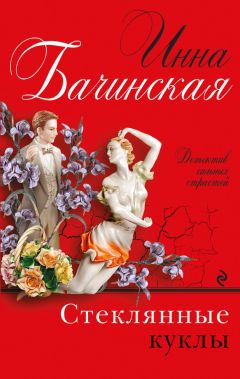Альберто Савинио - Вся жизнь
Аполлинер. После 1929
Считается, будто он стремится поработить другие народы потому, что чувствует себя выше их и хочет уподобить их себе. На самом же деле он стремится завоевать другие народы для того, чтобы смешаться с ними и исчезнуть как немец. Жажда, а точнее, «необходимость» завоеваний, испытываемая немцем, обусловлена его комплексом неполноценности. Европа, о которой мечтал Гитлер, то есть германизированная Европа, постепенно поглотила бы немцев и в конце концов «переварила бы» их, разрешив таким образом проблему германизма. Так в процессе этого гигантского пищеварения Европа постепенно поглотила бы эту назойливую, неугомонную, надменную, опасную «неевропейскую» расу, подобно тому как Англия в свое время поглотила порцию германцев, превратив их в англичан; как Северная Франция в свое время поглотила порцию германцев, превратив их во французов; как Северная Италия в свое время поглотила порцию германцев, превратив их в итальянцев. Но скольких усилий стоил бы Европе такой довесок! Желудок Европы не вынес грозящей перспективы этого жуткого пищеварения. Такое кушанье, как немцы, даже если поглощать их для того, чтобы переварить и превратить в европейцев, способно отпугнуть самые могучие желудки. Тот необычный голос, что эхом разнесся по лесу, был криком одного из немецких солдат, разбивших вчера вечером лагерь вокруг моего дома. За первым криком последовал второй — уже из другой точки леса; затем третий, четвертый — и все из разных концов леса. Теперь я могу представить, сколько же там немцев. Я чувствую себя окруженным, заточенным, плененным. Из-за деревьев блеснуло на солнце чье-то обнаженное тело. Вчерашние солдаты были высоченного роста. На них были высокие сапоги и шорты, рубашки цвета хаки с закатанными выше локтя рукавами и каскетки с плоским козырьком. Солдаты Гитлера отказались от клепаных касок своих отцов — символа пруссачества. Возможно, немцы полагают, что так они стали свободнее, что они превратились в более «республиканскую армию», более «национальную», более «народную». Чудовищное лицедейство нацизма — выдавать себя за «народный» режим или же (играя на двусмысленностях) за режим, претворяющий в жизнь «здоровые» постулаты коммунизма. Меж тем как в нашем понимании основной принцип народного режима заключается в искоренении национализма, изжитии идеи и чувства родины, что влечет за собой изжитие идеи превосходства собственного народа и, следовательно, расизма. Нацизм — «народный режим» подобен свободному разуму, подчиненному идее Бога. Но осуществить этого не удалось. Под этой свободной, «спортивной» формой все, что ни есть в прусском солдате тупоголового, отлаженно-систематичного, механического, жестокого и безжалостного, проявляется еще нагляднее. На голове немецкого солдата по-прежнему неизгладим след от клепаной каски. Один из солдат держал в руке ведро. Подойдя к нам, он знаками дал понять, что хочет набрать воды. Я достаточно хорошо знаю немецкий, чтобы объясниться с этим солдатом, но все же предпочел изображать полное невежество и держаться от него на прежнем расстоянии. На языке психологии эту форму намеренного невежества можно назвать «защитным невежеством». Коль скоро инфицированные фашизмом итальянские генералы продали Италию и, безоружную, сдали ее солдатам Гитлера, у нас нет другой защиты, как не замечать, не слышать, игнорировать захватчика. Мария встала и провела немца в дом, чтобы показать, где находится водопроводный кран. Вернувшись к нам, она сказала: «Он поблагодарил меня и улыбнулся». Мария проговорила это так, словно хотела сказать: «Я повстречалась с жирафом, и жираф неожиданно заговорил». Откуда-то доносится лошадиное ржание. Эта звучная лошадиная дрожь напомнила мне, что накануне вечером немцы вошли в усадьбу Буонвино, расположенную по соседству с нашей усадьбой, и теперь загоняют туда лошадей. Из всех животных звуков ржание — как вспышка молнии среди бела дня. Есть в ржании что-то электрическое. Впрочем, в лошади все электрическое: и подрагивание кожи, и рывки ног, и внезапные бешеные взмахи головы, словно только что по ее телу неожиданно прошел разряд электрического тока. Из-за деревьев виднеется лошадь. Она привязана уздечкой к сетчатой изгороди усадьбы Буонвино. Скорей всего этих лошадей отобрали у версильских крестьян. Тем не менее моя лошадь не проявляет ни малейшего беспокойства: стоит себе преспокойненько, вовсе не так «наэлектризована», как того следовало ожидать, и лишь слегка удрученно поводит головой. Впредь я уже не стану говорить, что лошадь — это благородное животное; а тем более умное. Немецкие солдаты продолжают односложно перекликаться по всему лесу — как дикие лесные звери. Ощущение, что находишься в доисторическом мире, становится все сильнее. В чем же «необычность» этих голосов? Свежий и чистый утренний ветерок рассеивает застилавшую взор пелену: все вокруг становится прозрачным, и передо мной открывается внутренняя суть вещей. Я могу видеть сквозь листья деревьев. Могу заглянуть в недра земли. Могу открыть то, что таится в небесной глубине. Но что же таится в небесной глубине?.. Ничего. Я открываю небытие глубины. То, что заставляет нас верить в существование глубины, есть не что иное, как расстояние между нами и «некой» поверхностью. Между нами и «глубиной» нет решительно ничего, кроме ряда «поверхностей». «Глубина» — это тоже «поверхность». В это утро меня больше обычного поражает гортанное звучание немецких голосов. Пожалуй, «гортанное» лишь приблизительно передает качество звучания немецких голосов. Все разносящиеся по лесу голоса обладают одним и тем же качеством. У всех у них один и тот же «дефект». Все они звучат с некоторым «усилием». Из глубины памяти до меня долетают отзвуки разных немецких голосов. Я вновь слышу голоса немецких певцов. Голос тенора Лоренца в «Зигфриде». Все они, и голос Лоренца в том числе, имели одинаковый «дефект»: все звучали с одинаковым «усилием». Голос не выходит из гортани естественно и легко. На своем пути он должен преодолеть какое-то сопротивление, что ли, пройти через некую диафрагму. Впрочем, здесь я должен предоставить слово «специалистам». Но можно ли доверяться специалистам? Можно ли доверяться их умственным способностям? Можно ли надеяться, что в результате их исследований действительно будет сделано какое-то открытие? Немецкий голос как бы вынужден протискиваться сквозь кольцо (отверстие), слишком узкое и несоразмерное своему объему, несоразмерное прежде всего тому впечатлению, значимости, силе и «назначению», которых от него ждешь. Каждый немецкий звук, каждое слово как бы переживают предсмертную агонию. Немецкий голос исполнен внутренней воли, но его словно «сдавливают» при выходе из гортани. Он как бурный речной поток, неожиданно попадающий в жерло водопровода, выход из которого требует мучительного усилия. Немецкий голос наводит на мысль о неморожденном народе, который только недавно обрел дар речи. Этот голос болезненно недоразвит и несовершенен. В нем слышатся отзвуки голоса глухонемого. Быть может, именно здесь, в немецком голосе, который обычно называют гортанным, не углубляясь в причины этой гортанности, быть может, именно здесь кроется суть немецкой драмы. Быть может, именно в этом первопричина извечного немецкого надрыва, того «сдавленного» усилия, той воли, которая никак не может выразиться свободно и до конца и поэтому выходит из себя, свирепеет, таит гнев и злобу. Быть может, в этом причина германской «надутости», разбухлости, вспученности. Быть может, в этом причина немецкого «колбасизма». Быть может, в этом подоплека той участи, на которую обречен немец, вынужденный тратить десять, чтобы получить единицу (в отличие от итальянца, который тратит единицу, а получает десять). Всмотритесь сквозь столетия в деяния немцев: их результат никогда не соответствует затраченным на них усилию и труду, а зачастую и вовсе оказывается отрицательным; и сравните их с деяниями итальянцев: даже самые незначительные из них приводят тем не менее к внушительным результатам. Быть может, именно в этом причина немецкого истеризма. Прислушайтесь к голосу Гитлера во время его обращений к немецкому народу — и в этом сдавленном, харкающем голосе вы получите всю драму немецкой «неосуществимости». Операция на язычках немецких детей, возможно, разрешила бы проблему этого несчастного и опасного народа. (Опасного потому, что несчастного.) Своего рода «обрезание язычков». Возможно, она вывела бы немецкую расу из состояния мучительного смятения. Превратившись в свободных людей, немцы уже не будут испытывать тягу к отчаянным поступкам; они будут довольны собой, успокоятся, позабудут о своей воинственности и посвятят себя мирным делам ради своего блага и блага других людей. Думал ли когда-нибудь Розенберг[37], что единственный способ «спасти» немцев — это подвергнуть их обряду обрезания?