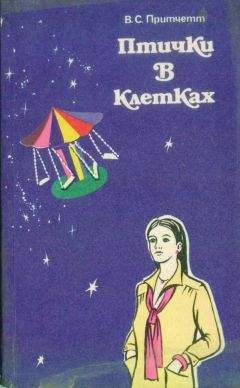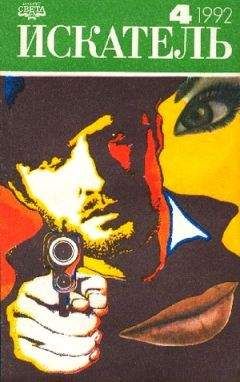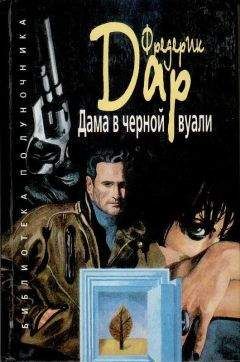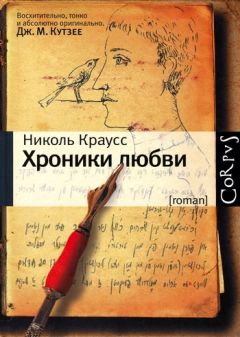Николь Краусс - Большой дом
Ничего не происходит, ответил ты. Врать-то ты никогда особо не умел. Мы обсуждаем, что делать со всей этой едой. Я, конечно, твою лапшу пропустил мимо ушей. Ури, я готов, сказал я. Отвези меня домой. Папа, ты уверен, что не хочешь остаться у нас? Ронит постелет тебе в гостевой комнате, там новый матрас, очень удобный, на нем и не спал еще никто, так, пару раз только попробовали. Он подмигнул и многозначительно ухмыльнулся. Шутник мой Ури, одно слово, шутник. И ведь не стесняется вовсе, дает людям посмеяться вволю, хоть даже за его счет, ему не жалко. Наоборот: если народ веселится, то и ему, сынку моему, хорошо. Тебе, небось, этого не понять, Дов? Тебе невдомек, что есть такие люди, как твой брат: плюнь им в глаза, скажут — божья роса? Ты-то сам жутко боялся, как бы над тобой, не дай господи, не посмеялись. Если такое случалось, ощетинишься весь, занесешь человека в тайный список и давай вынашивать план мести. Такой уж ты уродился. И что из тебя выросло? Окружной судья! Того и гляди назначат в Верховный суд! Вот уж назаседаешься. Всех рассудишь, все самые серьезные преступления. Ты лучше всех разберешься, кого там к высшей мере. Ты же чуть не с детства начал тренироваться. Поставил себя над всеми, стал судить, осуждать — вся твоя суть в этом, все нутро.
Спасибо, ответил я, лучше домой поеду. Ури пожал плечами, кликнул Ронит, чтобы упаковала мне еды с собой, и пошел за ключами от машины. И тут вошел Гилад, с решительным таким видом и без наушников. Я и не помню, когда видел его в последний раз без этого шлемофона на голове! Идет он, значит, прямиком ко мне, а я все думаю, что ему не я, а что-то за моей спиной понадобилось. Повернулся посмотреть, что там такое, а он в меня — не то уперся, не то врезался. Так он же меня обнимает! Мой малыш, уже и не малыш вовсе, а без пяти минут мужчина, пятнадцати лет от роду, пришел меня обнять! Довик, ты представь, мой внук, от которого я уже тыщу лет слышал только «да-нет» в ответ на любой вопрос, прильнул ко мне крепко-крепко, рот приоткрыл, зажмурился — того и гляди заплачет! Я похлопал его по спине. Ну будет, будет, держись. Помни: бабушка тебя очень любила. Вот тут-то он и разревелся, прямо в голос, тут тебе и слезы, и слюни, лопочет что-то бессвязное, не поймешь. А все потому, что никто его не предупредил, не научил иметь дело со смертью, этому нигде не учат, даже в этой стране, где смерти всегда больше, чем жизни. Ему впервые довелось. И плачет он не по ней, не по усопшей бабке, он по себе плачет, понял, что тоже однажды умрет. А до того — похоронит своих друзей, и друзей этих друзей, а со временем и детей этих друзей и, если ему выпадет жестокая доля, то и собственных, родных детей… Вот и ревет он, значит, жалеет всех. А я стою, утешаю, по спине его похлопываю, все молча, потому что мне кажется, что даже сейчас этот подранок, этот маленький мужчина все равно глух к любым словам — кроме тех, что проникают в него обычно через эти огроменные, лохматые наушники. Тут как раз вернулся Ури, позвякивая связкой ключей. И вдруг, откуда ни возьмись, твоя рука. Твоя! Ты его останавливаешь! Да кто ты такой и что ты в нашей здешней жизни понимаешь? Ты сказал: я отвезу его. Его? Кого его? Я чуть не завопил от возмущения. Я тебе что, ребенок, которого надо отвезти на занятия? Ури метнул на меня взгляд — проверяет мою реакцию. Уж он-то все про меня знает, у него в машине, на солнцезащитном козырьке рядом с электронным замком от его собственного гаража висит мой. Кто меня везде возит? Он, не кто-нибудь. Но что я мог ответить? Я же стоял там в обнимку с Гиладом. Ты поставил меня в безвыходное положение. Ну как я мог произнести все, что думаю о твоем дурацком предложении, когда у меня под руками рыдает ребенок? Да какой он большой? Ребенок — он и есть ребенок, ему нужно тепло, поддержка, ведь до него дошло, что вся эта жизнь и все мы, всё и все, кого он знал, — не навечно. Не время мне было с тобой ругаться.
Так вот и получилось, что через пять минут, вопреки своему желанию, я сидел с тобой рядом в машине, а на колени мне Ронит водрузила сумку с кучей пластиковых коробочек — всякую снедь с поминок. Машину эту ты, как приехал, взял напрокат. Внутри — все черное, кожаное. Что за машина? — спросил я. БМВ. Немецкая? Ты везешь меня домой на нацистской машине? Ты такая великая шишка, что не можешь, как все люди, ездить на «хюндае»? Корейцы для тебя недостаточно хороши? Специально переплачиваешь, лишь бы покататься на нацистской машине? Ее же собирали дети тех, кто гнал нас в газовые камеры! Нам что, мало черного цвета? Да мы им по гроб сыты! Выпусти меня отсюда! Я лучше пешком пойду. Папа… — произнес ты. И голос у тебя был какой-то новый, незнакомый, какие-то нотки в нем послышались… выше и тоньше обычного. Пожалуйста, папа, ты же не хочешь, чтобы я встал на колени? Позади тяжелый день.
Ты вообще-то был прав. Я отвернулся и стал смотреть в окно.
Когда ты был маленьким, я частенько брал тебя с собой на базар. Ходили мы с утра, по пятницам, помнишь, Довале? Я знал всех, кто там торговал. Они меня тоже знали и наперебой предлагали попробовать то да се. Набери фиников в кошелку, да заодно поешь, не стесняйся, говорил я тебе, а мы с Зигури, торговцем фруктами, зацеплялись языками о политике. Минут через пять гляну: ты стоишь, зажав финик двумя пальцами и рассматриваешь, точно чудо неведомое, а в кошелке — от силы пять штук. Этак мы голодными останемся, возмущался я и принимался пригоршнями кидать финики в кошелку. Ты их в рот вообще не брал, никогда. Говорил: на тараканов похожи. На нашем базаре старый араб вырезал из черной бумаги профили людей. Сажал человека перед собой на ящик и, не сводя с него глаз, начинал чикать ножницами. Ты следил за ним, как завороженный, и все морщил нос — боялся, что араб порежется. Но такого никогда не происходило. Он щелкал ножницами безостановочно, а потом вручал человеку его портрет, самую суть его, только в бумаге. Ты считал араба гением, не хуже Пикассо. Даже дар речи терял в его присутствии. Когда у мастера выдавалась свободная минута, он точил ножницы о камень и напевал протяжную, замысловатую мелодию. Однажды я взял на базар и тебя, и Ури. Дошли до араба, и тут на меня накатил приступ не то самодовольства, не то щедрости, и я спросил: кто хочет портрет, мальчики? Ури тут же вскочил на ящик, принял многозначительный, гордый вид. Араб чуток опустил веки и — зачикал ножницами. Раз-два — и вот он, профиль моего Ури. Да один орлиный нос чего стоил! Он предсказывал великую, славную жизнь. Ури спрыгнул с ящика и — в совершеннейшем восхищении — схватил портрет. Что знал он тогда о разочарованиях, о смерти? Да ничегошеньки. И араб отразил это со всей ясностью. Ты следом за братом занял место на ящике, где до вас пересидело столько людей, а этот потрясающий художник, смерив их одним взглядом, выдавал черный контур неотрывным движением ножниц. Ты нервничал, по всему было видно. Араб начал работать. Ты сидел не шевелясь, а потом вдруг захлопал ресницами и уставился на пол, на черные обрезки. Они падали и падали, их становилось все больше. Ты снова глянул в глаза арабу, открыл рот — и завопил. Вопил точно резаный и нипочем не желал замолчать. Сбрендил ты, что ли, говорил я тебе и тряс за плечи, но ты орал и орал. Так и проревел всю дорогу домой: плелся за нами и ревел. Ури шел, зажав свой портрет в кулаке, и встревоженно оглядывался. Позже мама заказала для этого профиля рамку, повесила на стену, а что стало с твоим портретом, я не знаю. Наверно, араб его выбросил. Или сохранил — на случай если я вернусь и потребую то, за что заплатил. Но я не вернулся. А ты с тех пор отказывался ходить со мной на базар. Понимаешь, мой мальчик? Ты хоть понимаешь, каково было тебя растить?
Ты отвез меня домой… Мы жили тут с твоей матерью, но теперь это уже не ее дом, она туда уже не вернется. Она проводит свою первую ночь под землей. Я говорил это себе, но в голове все равно не укладывалось. Нет, госпожа Кляйндорф, это же уму непостижимо: родная жена лежит мертвая, а сверху еще два метра земли насыпано! Но я смотрю правде в глаза. Я не утешаю себя всякими байками, не воображаю, будто жена моя растворена в воздухе, которым дышу, или вернулась на землю вороной и одиноко каркает теперь в саду перед домом. Я не унижаю ее смерть небылицами… Под колесами твоего немецкого автомобиля захрустел гравий. Ты заглушил двигатель. Синева неба над горами начала густеть, но там еще алел жар дня, а дом уже погрузился во тьму. И, слушая во внезапной тишине последние хрипы двигателя, я почему-то вспомнил, как мы переезжали сюда из прежнего дома в Бейт-Хакерем. Ты-то помнишь? Все утро ты провел, запершись у себя в комнате: пересаживал рыбок из аквариума в полиэтиленовые пакеты с водой. То завязывал эти пакеты, то развязывал — боялся, что рыбки задохнутся. Мы все суетились, заклеивали коробки скотчем, выносили мебель, а ты знай себе пересчитываешь рыбок и готовишь к переезду любимую черепаху. Ох, сколько же заботы расточал ты на эту рептилию! Каждый божий день выносил в сад на разминку: поползать да погреться на солнышке. Ты вглядывался в глазки-бусинки и видел в них тайники черепаховой души. А как же ты рассердился, как развопился, когда мать купила не тот салат! Бесчувственная! Посмела купить черепахе салат с прямыми листьями вместо лохматых! И я сорвался. Негодяй! Неблагодарный негодяй, орал я. В ярости я схватил твою подружку — не за панцирь, а за ногу, — и поднес к лезвию блендера. Черепаха отчаянно пыталась втянуть ногу назад, но я крепко зажал ее пальцами и запустил блендер. Ты закричал. Истошно, страшно. Будто я тебя самого сейчас в жертву принесу. А у меня по телу забегали приятные такие мурашки. Позже, как только ты, прижав к груди несчастную черепаху, убежал к себе в комнату, лицо у твоей матери стало точно каменное. Мы поссорились, мы всегда из-за тебя ссорились. Я сказал, что не намерен спускать сыну такое поведение, и она не должна. С ума, что ли, сошла? Это ни в какие ворота не лезет! А она… Она же, пока ты рос, все до единой книжки перечитала по детской психологии, все теории через себя пропустила-переварила. И вот она стала меня убеждать, что черепаха эта для тебя — символ. Символ тебя самого. И наше неуважение к ее потребностям и желаниям — все равно что небрежение к нему, нашему сыну. Нет, ты подумай! Пресмыкающееся — символ человека! Придет же в голову! Начиталась всякой чепухи и научилась не просто разбираться в том, что у тебя в башке делается, а прямо-таки сопереживать твоим дурацким закидонам. По всему выходило, что не тот сорт салата — это эмоциональное насилие. Во как. Но я сдержался. Пусть выговорится. Пусть сама устанет от этой чуши, от этих идиотских теорий. Наконец она замолчала. Тогда я сказал ей, что она свихнулась. И если парень считает себя вонючей, мерзкой, безмозглой рептилией, то обращаться с ним надо соответственно. Она пулей вылетела за порог. А через полчаса вернулась с пожухлым букетиком салата сорта ромэн и робко поскреблась к тебе в дверь. Она стояла там, у тебя под дверью, и шепотом умоляла, чтоб ты ее впустил. Спустя несколько месяцев мы как раз купили дом в Бейт-Заит, и ты всю ночь не спал: размышлял, как лучше всего транспортировать черепаху. А потом все утро рассаживал рыбок по пакетам и проводил с черепахой психологическую подготовку к переезду, как заправский психоаналитик! В дороге ты держал террариум на коленях, но на поворотах черепаху заносило и колотило об стенки. Глаза твои были полны слез, ты считал, что я нарочно мучаю животину. Только ты меня переоценивал: даже я не способен на такое изощренное издевательство. Кстати, ее трагическая гибель — не моих рук дело. Однажды ты по обыкновению вынес черепаху на солнышко, а вернувшись, обнаружил ее лапками кверху, с расколотым панцирем: на нее напала какая-то зверюга. Твоя любимица умерла у тебя на глазах.