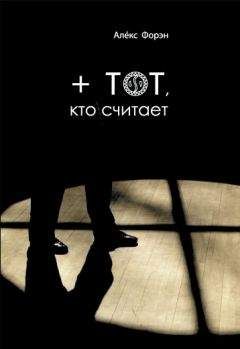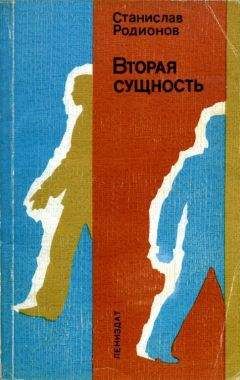Станислав Родионов - Избранное
— Кто? — спросила она тихо.
— Василий, ваш бывший супруг.
— Он вас… послал?
— Ему подобное гордость не позволит, а иду я в гастроном за уксусом для пельмешек.
— Э, дорогой, — заговорил ее муженек. — Неси скорей уксус, а то они заждутся.
— Кто? — удивился я.
— Племянники.
Видать, он пельмени от племянников не отличает. Александру-то я видел не раз: высокая, белая, ходит павой, лицом приятная. А вот муженька впервые. По национальности он грузин или южанин — черный, глазастый, носастый, усики-ниточки, и нашу букву «е» иногда на «э» переиначивает. Я, конечно, его с Василием равняю. К кому ушла-то? И выходит, что новый муж проигрывает мотористу по всем статьям: Василий и ростом выше, и в плечах ширше, и силой наделен, и букву «е» выговаривает. По всем статьям проигрывает, да по одной выигрывает — видать, культурный, ко второй сущности обращен.
Говорю ребятам… Черти вы лысые, глядите за движением мира. Ну Валерка с Эдиком другого замеса. А эти только и знают, что заработки да запчасти, футбол да хоккей. Был я у Васьки дома — одна полочка с книгами, да и та про шпионов. И учебники про самбо и про всякие драки. А теперешняя женщина нацелена на жизнь интересную, которую рублем да футболом не наполнишь.
— Страдает Василий неописуемо, — приступил я к делу.
Они молчат. Да ведь тут ничего и не скажешь.
— Работать не может. Дашь ему, скажем, сальник, а он глядит на него, как индюк на свежую булку.
В ее лице я замечаю некоторую растерянность. В его лице ничего пока не замечаю, но глаза жгучее жгучего.
— Раньше Васька едок был первостатейный, а теперь, верите, мясо из борща выловит, а всякую хряпу побоку.
— Что такое хряпа? — спросил муж у Александры, как у переводчицы.
Но она не ответила — глядит на меня натужно и прилипчиво. Видать, он тоже заметил ее состояние.
— Э, уважаемый, уместно ли вторгаться в семью?..
— Пусть говорит, — перебила она хрипло.
— От всего этого Василий похудел, как велосипедная спица, — начал я уже присочинять, — Вчерась присел за скат и плачет.
Лицо у Александры… Будь тут скат, она бы, думаю, тоже спряталась за него. Видать, женщина сперва мать, а уж потом жена. Для нее брошенный муж — что брошенный ребенок. Женщина, которая не плачет, женщина ли? Значит, не страдала. Тогда о чем с ней — о модах? Мужчина, из которого слезы не выжмешь, не мужчина, а бык. Значит, не страдал. Тогда о чем с ним — о гайках да о футболе?
— Боюсь, как бы руки на себя не наложил, — добавил я, может быть, уже лишку.
Тут я как бы обнаружил лицо мужа, ранее мною не шибко замечаемое. Белое оно до синевы крахмальной. Губы сжаты капканной силой. Глаза на жену смотрят с собачьей невыразимостью. И на южном носу капельки пота, хотя на улице прохладно…
И тогда долбанула меня, старого дурака, мысль со свайной силою. Что же я делаю, хрен еловый? Выхлопную трубу мне в горло… Как сказала Мария-то? Правда посередке, а я на один конец жизненной плоскости сбился.
За Ваську хлопочу… А этот, носатый? Чужой, а Васька свой? Своих грей, чужих бей. Хотел счастье одного устроить за счет другого. Правда посередке… Тогда, видать, правда со счастьем рядом не ходоки. Чьей женой должна стать Александра по правде? Чьей ни стань, один из мужиков будет несчастен.
— Ой! — подскочил я. — Уксус-то!
И задали мои ноги буквально стрекача — улепетывал от них и от своей собственной глупости.
12
Что в моей бригадирской должности самое тяжкое? Много чего. Но противнее противного дело меж ребятами распределять. Тут уши у меня топориком, поскольку судите сами… Хоть мы и мастера на все руки, но раннюю специальность каждого учитываю: зачем, к примеру, плотника Матвеича на двигатель бросать, коли моторист Василий здесь полный мастак. Характер каждого уважаю: что надо побыстрее, то Валерке большеротому предложу, а не моему тезке Николаю. Настроение ребят смотрю — с чем пришел на работу да после чего, ел ли Эдик и пил ли Матвеич… И возраст учитываю — а как же?
Бывает, что прям-таки сидят и думают, чем бы приманить молодежь — что, мол, движет парнями… Ага, стимулы. Квартира, деньги, развлечения, женщины… А главное-то и позабыли — любопытство. Потребности потребностями, да и под ними любопытство светится. А что там? Что там на работе, что в браке, что у соседа, что на улице, что в книжке, что на Луне?.. Молодость определяется любопытством. Так скажу: молод тот, кто любопытен.
Короче, надо рессору отрихтовать, то есть каждому месту вернуть первоначальный выпуклый вид. Бери молоток потяжелее да стучи посильнее. Вот и думаю, кому дать. Кочемойкину — он возьмет, да ему другую работенку припас, потоньше; Матвеичу — плотник он все ж таки; Николаю — у него сегодня окраски много; Василию-мотористу — так он в задумчивости все пальцы себе обобьет; Валерке и Эдику подобная работенка не любопытна… Ну и рихтую сам, пока плечо не заноет.
А за общим настроением приглядываю, чтобы трудилось нам весело и споро. Где шутка, где прибаутка, а где и баечка. Меня подначат, и я дам сдачу. Валерка большеротый — шельмец, старается сильнее всех в мой адрес.
После смены попросил я Кочемойкина зайти со мной в комнату отдыха. Его вообще-то звать Петром, да вот пошло — Кочемойкин да Кочемойкин. Ему полета. Не работник, а балерина — у него в руках гайка с болтиком целуются. Из себя он солидный, брюшко у него с небольшой тазик. Лицо строгое, улыбается по заявке, да при таких крупных чертах размениваться на улыбку нехозяйственно. Кроме всего этого он член профкома.
— Глянь-ка, Петр, на пальму, — посоветовал я.
Он глянул, а потом на меня с недоумением. Пальма сухая, остролистая, африканская, не то что, скажем, наша береза. А береза, поди, в комнате расти и не будет.
— И на рыбок глянь…
Вот рыбки хороши, голубые, пучеглазые. На Кочемойкина смотрят и ртами ему делают ам-ам.
— К чему на них смотреть?
— К тому, Петр, что когда мы тут сидим, то жизнь идет полнокровно.
Кочемойкин еще раз оглядел пальму — стоит вроде зеленого сухостоя; потом кинул повторный взгляд на рыбок, которые, само собой, сделали круглыми ртами ам-ам.
— Фадеич, ты вола не крути…
— Петр, может, ответишь на вопрос?
— Какой вопрос?
— Зачем наша бригада появилась на свет?
— Работать. А что?
— Работать возможно и без бригады, Петр.
— С бригадой больше наработаем.
Вижу, что уперся я в Кочемойкина своими загадками, как грузовик бампером. И пропади оно под сваю — не могу словами передать надуманное. Топчусь кругом да около, выбирая, с какого боку поддеть вопрос.
— Петр, ты сегодня гнал ребят не хуже пастуха. Зачем?
— Не понял смысла вопроса.
— Зачем, говорю, давил на ребят?
— Хлеб твой бригадирский отбираю, что ли?
— Этого хлеба на мою жизнь хватит. К чему бешеная гонка, Петр?
— Фадеич, разыгрываешь меня или как?
Глядит на меня Кочемойкин, будто я голубая рыбка
и делаю ему круглым ртом ам-ам. А я не разыгрываю, я «или как».
— Петр, ты сними зипун-то…
Дубленка у него дай бог всякому. Он уже намылился домой, но мои загадочки, видать, поддели за живое. У женщины талия, а у бабы бок; отгадай загадочку правильно и в срок. Короче, к вопросу можно шагнуть и с другого боку.
— Петя, — ласково зажурчал я, хоть ему полета и член он профкома, — ответь мне на вопрос: что есть жизнь?
Он вскочил, как шишок, и сграбастал снятую было дубленку:
— Я не жравши, а у тебя шуточки.
— Придется к Василию обратиться, — вздохнул я притворно.
Кочемойкин прыть убавил, поскольку они с Василием порассуждать любят о жизни и расценках; Василий порой его и забивает громкостью голоса и длиннотой мыслей, отчего, говорят, и жена от него ушла — из-за этих длиннот.
— Хорошо, Фадеич, — Кочемойкин сел, как вошел в свою резьбу, основательно.
— Что есть жизнь, Петр?
— Работа, Фадеич, работа.
— И все?
— Почему ж… В жизни много всего есть. Жена, еда, телевизор, дети…
— Не знаешь, Петя, что такое жизнь.
— А ты объясни, — с усмешечкой просит, потому что у него десять классов, а у меня по анкете семь, хотя и на шесть-то не наскребешь.
— Я лучше зайду с другого боку… Кому свою жизнь отдаешь, Петя?
— Э-э, Фадеич, газеты я читаю. Работе отдаю, кому же еще.
— Какой работе?
— Да нашей, бригадной.
— Ремонту, что ли?
— Я, Фадеич, тридцать лет отдал этому делу.
— И не жалко?
Кочемойкин глядит, будто я аспид какой, будто я рыбок в аквариуме ловлю да заглатываю.
— Не понял, — пришел он маленько в себя.
— Не жалко, — говорю, — отдать жизнь автотранспорту? Он же тупой, как бампер.
— Кто тупой?
— Автотранспорт, кто ж…
Думаю, сейчас возьмет Кочемойкин африканскую пальму и грохнет по моей русской башке. И пойдет домой обедать, и, между прочим, правильно сделает, поскольку еда наверняка простывает.