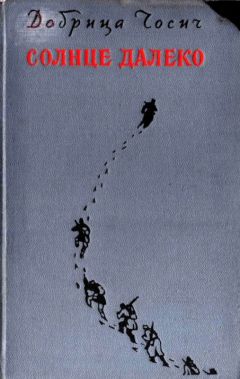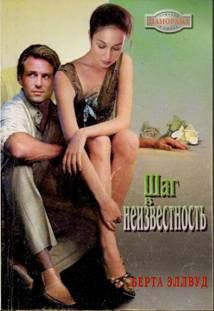Добрица Чосич - Время смерти
— Это что же, опять Сербия погибает, а, Наталия? — шептал отец Боривоя, не сводя глаз с опанок сына.
— Не может погибнуть Сербия. С нами вместе Россия воюет.
— Бабы, поднесите Наталии, как полагается. Что поделаешь. Господь нам его дал, господь и взял. Могла болезнь унести, пока младенцем был. А вот дождались, стал парнем и солдатом. Польза от него была и земле, и державе. Умел и радость, и заботу принести. Выходит, жизнью откупился, — шепчет отец Боривоя над пустой разложенной на столе одеждой.
И снова брела она между изгородями, скользила по грязи под рыданья женщин и колокольный звон, встречала рекрутов, уходивших на сборный пункт, всякий раз трепеща, когда надо было пожелать им счастливого пути. Остановилась под копной сена, поднятой на ясень, вынула из-за пазухи письмо Богдана:
Наша армия отступает. Возможно, нам угрожает разгром. А мы, студенты, чувствуем себя победителями. Ты понимаешь, что это не безумие? Мне жутко стрелять в людей, но я убеждаю себя, что буду сражаться за человеческую справедливость и свободу бедных и угнетенных. В них — моя родина. И в тебе, Наталия. Честное слово, я так чувствую: ты моя вторая цель, за которую я сражаюсь на войне.
Понимаю и не понимаю, милый мой, глупый. О господи, зачем я вышла из вагона в Лапове? Чего испугалась? Его больших, круглых, как галька, слов. От желания как сознание потеряла. Свет в глазах померк. Только о том я и думала, когда перешла через Мораву, нет, когда прочитала:
Обязательно доберись в среду днем, потому что в четверг мы отправляемся в Скопле. Я отправляюсь на войну. Наталия, приезжай раньше на одну ночь. Приезжай, если веришь мне. Непременно. В любом случае. За ночь до отправки. Война, Наталия.
Потому я и выскочила из вагона. Толкнуло меня что-то, не думала я об этом в дороге, ни одной минутки не хотела. Вдруг испугалась, привиделось: он наклоняется над ней, засыпая ее словами и ослепляя очами; выпрыгнула из вагона, побежала от станции, в кукурузу, в плети тыквы: поезд свистнул далеко, уходя к Рале без нее. Хотела зарыдать, мучилась, не могла. Взгляд цеплялся за темные комья земли, обращал их в сумерки, в бездну. И она испугалась самой себя, своего бессилия и далей, доползла до дерева, на которое можно было опереться: почему она так его боялась? И не нашла ответа.
А когда на заре стихли цикады, выбралась из кукурузы и пошла на станцию, чтоб с рассветом сесть в первый поезд к Белграду. Около полудня добралась в Ралю, сборный пункт студентов, учащихся, ребят-добровольцев. Еле пробилась сквозь толпу знакомых — веселые шутки и возгласы в сливовом саду возле пересохшей речки, а со стороны Земуна и Срема громыхали орудия. Разыскала его — он лежал на спине, положив под голову руки, не шевелясь; подождал, пока она приблизилась, чуть приподнялся, впервые не улыбнулся ей, пожал руку вяло, концами пальцев, а не всей ладонью, сильно, как всегда, пугая сердечностью и мощью. Ни словом не упрекнул за то, что не приехала вечером; не напомнил, что даже часа времени нет у них до его отъезда на войну. Рассказывал и о своем прощании с Димитрием Туцовичем[21], а она смотрела прямо перед собой и, охваченная тоскою, стыдилась себя. Почему она его испугалась? Почему не верит ему? Ему, совсем иному из всех, кто приходил в Зал мира в Рабочем доме, совсем иному, чем до сих пор, — а сейчас побежденному мужским тщеславием, обыкновенному студенту и добровольцу, который надевает свою сумку и по команде офицера легко, будто отправляясь на прогулку, выходит на перрон, где его ожидает поезд. Она не могла справиться с собой.
— Богдан, ты должен меня простить.
— Что тебе простить?
— Страх мой. То, что нас отличает от вас, мужчин.
— То, что дает мужчинам право на превосходство?
— То, что вас лишает такого права, Богдан. Не смотри на меня так. Я не стыжусь своих слез.
Она убежала бы в кукурузу, бросила бы его у вагона, если б он тихо, заикаясь, не произнес:
— Ты понимаешь, что значит пойти на войну? Даже если я вернусь, я не буду таким, каким был. Я, Наталия, не боюсь смерти, я боюсь войны. Жутко боюсь войны.
Вот этого, который шепчет, она любит, который дрожит, а не того, что произносит громкие слова, угрожает. А потом он только имя шептал ей в лоб, медленно, молитвенно, обреченно: «Наталия, Наталия…» Они стояли у вагона, который уже заполнили и в котором пели, обнявшись, студенты и молодежь, которых никто не провожал. Она дрожала под бременем его больших мягких ладоней на своих плечах; шатаясь, лбом касалась его подбородка; перед глазами у нее чернела рощица неподалеку и полыхала кукуруза: там было бы их ложе, если б она приехала вчера. Больше она его никогда не увидит. Она спрятала лицо у него на груди, в которой гудели какие-то слова, которых она не понимала. И все обратилось в боль, которая свела ее тело, чтобы оно осталось у него в ладонях. Не слышала, видела только смех, полные вагоны смеха. Они удалялись на войну.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Глава сербского правительства Никола Пашич, стоя за письменным столом, с отсутствующим видом слушал своего помощника по иностранным делам Йована Йовановича:
— Опять нота английского посольства, господин премьер-министр. Английский консул в Скопле пожаловался своему министерству, что мы обложили большим налогом каких-то купцов-турок, которые являются их друзьями.
— Передай окружному начальнику, чтобы сняли налог с этих турок.
— И вице-консул из Битоля гневается, что мы обложили налогом два села, где он охотится на куропаток. У господина Грея нет охотничьей собаки, и крестьяне на охоте заменяют ему собак.
— Этих крестьян тоже освободить от налога. Пусть господам консулам во всем угождают, лишь бы английское посольство не присылало нам подобных нот.
Когда Йованович вышел, Пашич предупредил секретаря, что сегодня никого больше принять не сможет. Ни своих министров, ни иностранных посланников. Ни друзей, добавил резко. По телефону отвечать только королю Негру и воеводе[22] Путнику.
Оставшись один, он не сел — оперся ладонями о стол, заваленный утренними недобрыми телеграммами из столиц союзных государств и сообщениями с фронтов, только что переданными ему военным министром. «Положение критическое! Критичнее быть не может, господин премьер-министр». «Будет еще критичнее, господин полковник, будет», — возразил он ему, подумав, что человек, который не способен представить, что при любой неприятности может быть еще труднее, не годится в министры его правительства. Склонившись над столом и устремив взгляд в голую стену, он погрузился в раздумья: что самое важное из того, о чем он не должен сказать в своем завтрашнем сообщении на закрытом заседании парламента, созванного из-за стремительно ухудшающегося положения Сербии? О положении, в каком оказалась Сербия, когда одну ее часть захватывает враг, а другую отнимают друзья, когда армия с трудом удерживает фронт, а союзники отдают Македонию Болгарии и не присылают боеприпасов и снаряжения, в то время как оппозиция в парламенте и в газетах вопит: «Пашич виноват в этой беде», и люди верят ей. Как сказать меньше, когда все ждут, что он скажет все, даже самое худшее? Ибо при большом несчастье люди видят даже то, чего не видно, и понимают то, что не понятно. Сегодня любой дурак может доказать, что положение Сербии безнадежно. А его долг указать основания для надежды. Указать надежду, много не доказывая. Люди почему-то не верят политике, которая нуждается в доказательствах. Зато налицо оппозиция, которая имеет в руках все доказательства против такой политики и намерена ее сокрушить. Если бы завтра в парламенте, а главное, в газетах, ему удалось заставить умолкнуть этого Вукашина Катича. Он единственный в рядах оппозиции, кто умеет разумно сказать и кому люди верят. Такой министр ему сейчас нужен. Нет политического единства без Ачимова сына, а тот яростнее всего выступает против любого политического союза. Как заставить поддержать свою политику именно его, этого своего старого ярого противника?. На последних парламентских выборах только нападение Австро-Венгрии на Сербию спасло Пашича от поражения.
— Господин председатель, у телефона начальник штаба Верховного командования, — доложил секретарь, — а у меня полна комната иностранных журналистов, которые просят принять их.
— Скажи, что я приму их послезавтра.
Секретарь удалился, а он сел, неторопливо взял телефонную трубку и дождался, пока воевода Путник произнес:
— Я долго думал, господин председатель, прежде чем решил сообщить вам: нашей армии грозит катастрофа.
— Армия, я полагаю, еще в окопах, господин воевода. И оказывает сопротивление австрийцам и венграм.
— Больше не оказывает. Наш фронт в Мачве и у Ягодин развалился. Швабы прорвали его и неудержимо подступают к Валеву.