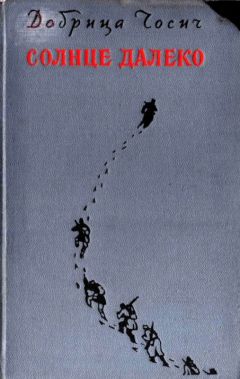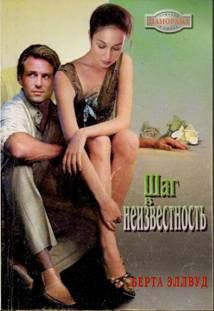Добрица Чосич - Время смерти
Пробирался Тола преровскими сливовыми садами, осторожно перескакивая изгороди: не тронет он тех, у кого есть погибшие. И тех, кому уходить на рассвете. А у тех, кто никого не проводил на войну, кто спит и, подобно кротам, пережидает войну, у тех заберет он петухов и отдаст их своим героям. Собаки, почуяв его, залаяли; женский плач слышался из овинов. Он укрылся под низким айвовым деревом: вот заячья душа, не воевал ни против турецкого, ни против болгарского царства и сейчас не идет против швабов. Тола ловил чужих кур, щупал у них хвосты и гребни, искал петухов. Птицы всполошились, кудахча посыпались с дерева, петухи взлетели на шелковицу; с пустыми руками перепрыгнул Тола через изгородь, пошел дальше, спешил к насестам на шелковице; вот этот жулик на каторге, его голова в безопасности. Негоже, чтоб у него еще жена жареных петухов вкушала. Однако куры у него тоже продувные, на самой верхушке устроились. У воров все воровское. Спешил Тола, припоминая, чьи куры обычно ночуют на деревьях вдоль обочины. Искал низкие насесты, никак не мог найти петуха. У кого низкий насест — сплошной плач в доме стоит; а там, где спят и все тихо, куры на самые верхушки деревьев забрались. По селу разносился плач, лай, кудахтанье.
Так без петуха, злой, и вернулся он обратно; стиснув зубы, поймал соседскую курицу, та заверещала во всю мочь. Стиснув ей горло, Тола перепрыгнул через изгородь, на поленнице зарежет. Велел жене и снохам развести огонь, нагреть воды, нечего нежиться в постели, когда сербские солдаты, голодные и босые, всю ночь мокнут на каких-нибудь камнях или в окопах из желтой глины. И опять под свою сливу — ловил кур, ощупывал: бедняцкие, тощие, кожа да кости. Едва выбрал одну, прочие разлетелись в темноте по двору. Он кричал на снох, велел им поймать еще одну курицу, самую крупную. Резал; женщины, вздыхая, уносили их в дом, он оставался сидеть на поленнице: Алексе петуха нужно. Он канонир, единственный в Прерове, лучший наводчик в Моравской дивизии, заслужил звезду Карагеоргия[17]. Благое и Милое не обидятся, знают, что в хозяйстве только один петух и остался. А лепешки будут равные, бутылки с лютой ракией от Джордже — равные. Айва — равная. И по куску сала тоже. Дал бы Джордже и по дукату, сколько ни попроси, дал бы, всем дает, как война началась, только нули, известно, липнут к дукатам. Если суждено, пусть погибнут бедняками. Солдаты с пустыми карманами. Пусть видят швабы, что мы честный народ. Пусть и на небе узнают, что Дачичи были поденщиками. Такими же остались и на войне за свою державу и свою свободу. Но ради чьего же блага остался лежать на Цере его Живко? Без могилы лежит его сын в земле, за которую отдал жизнь. А человек без могилы словно и не родился. Без памятного знака о себе человек будто вовсе и не существовал. Во имя чего ходил он по земле, если нельзя ее даже могильным крестом украсить? Лучший земледелец в Прерове нагим ушел в землю. Такой мужик остался без могилы. Нет его. И не было вовсе на свете Живко Дачича.
— Анджа, бабы, где вы? Пирог испеките. Чтоб мои не стыдились перед солдатами и унтером, когда сумки раскроют.
— Из чего пирог-то?
— Возьмите у тех, у кого есть. Если за пятьдесят лет поденщины мы на пирог солдатам не заработали, не за что им тогда и воевать.
Он встал с поленницы, ушел под крышу: пусть горячий деготь льется с неба, он должен разыскать сыновей и быть вместе с ними в погибели. Если живы, он, как в праздник, накормит их, принесет им одежду; а если привелось им погибнуть, похоронит их как людей, могильный крест поставит, чтобы не позабылось их существование. Где-то во дворе у Джордже приметил он на днях хорошо выделанную ясеневую доску. Из нее три отличных креста выйдет. Хватит места имя и фамилию написать, как в букваре, можно красиво вывести. Моя фамилия посередине. День, когда родился, Прерово, Моравская дивизия. И год, когда скорбит Сербия. Доски для гроба там найдутся, на месте разыщет. Дом чей-нибудь разберет, но гроб своему сыну-солдату сколотит. Пока я жив, мой сын нагим не уйдет в землю. На земле лежать крысам да собакам не останется. Мокнуть мертвым в грязи, а ведь для злаков он землю ворочал, боронил, от корешков очищал. Инструмент, чтоб гроб сделать, с собой надо прихватить. Швабы грабят, народ спасается и уносит все, что унести может. Инструмент пригодится. Топор, тесло, рубанок, пила! И гвозди. А у него только топор и есть. У хозяина Джордже все есть. Где бы найти голубой краски? Голубой краски где найти? Некрашеную доску лишаи поточат, почернеет. Старая, безобразная. Быстро истлеет при таких дождях некрашеная доска и сгниет прежде человека. Надо голубой краски раздобыть в Паланке. Что из того, что воюют? На позиции да без голубой краски — не пойдет! Свечи, ладан, известное дело. Лампадка. Лампадку чуть не забыл. Дождь может пойти, свечу погасит. Только сперва найти бы ту белую выделанную ясеневую доску.
Он перелез через изгородь, нет времени выходить в калитку; собаки скулят, узнали; он торопится по клетям у Джордже собрать инструмент нужный и при первых лучах зари ищет белую ясеневую доску.
9Из комнаты Ачима заметил его Джордже, но какая ему забота, что Тола рыскает по клетям, если Ачим рассказывает, как сегодня ночью он видел во сне Адама.
— Решил я с Толой поехать к Валеву. Быть возле него. Вызволить его, если сумею. Что там с войском и государством будет, поглядим, — сказал Джордже и выплюнул окурок.
Ачим впился в него взглядом — темная фигура, врезанная в окно первыми лучами зари; громко, с дрожью в голосе сказал:
— Можно ли такое, Джордже? Если беды великие на весь народ падают, не смеет человек в одиночку от них уходить.
— У человека одна голова на плечах, и надо ее спасать.
Ачим долго молчал, потом выдавил:
— Адам не погибнет! Не может, Джордже, все наше погибнуть. Война тоже не берет без меры и счета. Самое горькое зло не без справедливости. А мы вдосталь пострадали и за Мораву. И ты, и я.
— А если погибнет, что мне тогда делать? — прошептал тот.
— Поезжай, погляди на него. И дай ему все, что нужно. Только пусть остается с людьми и с винтовкой, Джордже. От всего другого ему хуже будет.
Джордже надвинул лохматую шапку и молча вышел под дождь.
— Голубая краска у тебя есть, Джордже? — издали крикнул Тола, неся доску, пилу и еще что-то.
Он не понял его: пялил глаза на доску, оглушенный причитаниями, доносившимися через дорогу из-за ясеней.
— А почему голубая? — пробормотал он.
Тола поднял голову к хмурому рассвету, к дождливому небу.
— Этого я не знаю. Не знаю, почему могильный крест и гроб окрашивают в голубое. Понятно, война. Но надо, чтоб было голубое.
Джордже ничего не сказал, поспешил к конюшне, велел слугам подниматься и готовить лошадей и телегу в дальнюю дорогу.
Ачим, одетый, сел к столу у окна, через которое виден был двор, ворота, дорога в ясеневой аллее. Звуки села для него затихали, зато громче звучало то, как запрягали лошадей и готовились в дорогу. Все от него вот так с рассветом ушли: Вукашин, Адам, а теперь и Джордже. Он вглядывался в эти рассветы и в эти уходы, неожиданные, стремительные. Без возвращения. И что же в конце концов у него остается от его долгой и такой разной жизни? И какого бы добра и какого бы зла он не сделал, только бы не пережить то, что пришлось пережить.
Словно из мглы и неведомой дали, послышался топот лошадей и стук телеги. На преровской церкви ударили в малый колокол; его поддержали большие, оповещая о смерти мужчины.
Звон колоколов выводит его из оцепенения и погружает в туман давних воспоминаний. С отсутствующим видом смотрит он на первую страницу непрочитанной вчерашней «Политики»:
Сообщение Верховного командования сербской армии.
Вследствие значительного численного превосходства противника, вторгшегося в нашу страну, наши войска медленно отходят, чтобы дать бой при наиболее благоприятных условиях… Кобург требует Македонию… Объявит ли Болгария войну Сербии?.. Ожидается вступление в войну Турции… Русские наступают… Сколько времени продлится война?
Он отбросил газету и выпил остывший кофе. Каждое утро после кофе он уходил в корчму, чтоб рассказать мужикам о новостях, обругать Пашича и правительство, предсказать погибель Австро-Венгрии и Германии, убеждая в победе великой России; каждое утро то же самое, однако сейчас он взял палку и замер в дверях: остановил его церковный звон.
Откуда-то издалека вошла в ворота Наталия Думович. Не обрадовался он ей. И она ему не улыбнулась, как бывало, когда она подходила, чтоб сперва поцеловать ему руку. Что-то кричит. А он не слышит ее из-за гула колоколов.
10Наталия встала под стрехой и концом синего платка, что был на голове, вытирает мокрое лицо. За пазухой у нее словно дышит письмо Богдана. Сила и тепло в нем. Радость, которая и перед Ачимом рвется наружу. Несмотря на звон колоколов, возвещающих о гибели преровцев. Однако со страхом взглянула она на него. Потому что он держится за косяк и глядит куда-то сквозь нее.