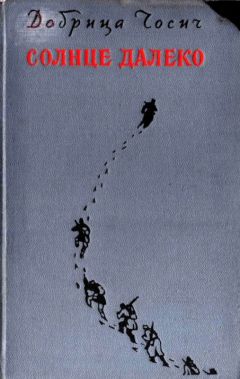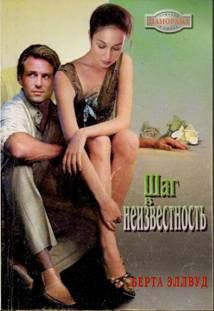Добрица Чосич - Время смерти
В комнате Вукашина за все двадцать два года он лишь однажды провел целый день: еще затемно вбежал к нему бледный, дрожащий учитель Коста Думович и, словно сообщая о смерти Вукашина, пробормотал: «Независимые[16] создали правительство, Вукашин стал министром», — и тут же выскочил, не закрыв за собою дверь. Ачим кое-как оделся, руки у него дрожали. Он вошел в комнату Вукашина и до самой ночи сидел там, глядя на фотографию. Ему было приятно, что Вукашин стал министром. Ему было приятно, никогда не бывало так грустно и приятно одновременно, но он несколько раз сказал самому себе: «Я тебе оппозиция, знай». А когда правительство, в котором Вукашин был министром, пало, когда потом сына не включали больше ни в один кабинет, он после каждой перемены правительства мимоходом из тьмы бросал Джордже: «А этому опять жулики под дых дали». И снова молчал о Вукашине, точно о беглом каторжнике, который прячется где-то внутри него и в пустынной комнате позади его изголовья, дверь которой тогда, когда Адам отправился спать перед уходом на войну, обожгла ему ладони и лоб.
Он взял ключ, который держал в жилете, привязанным к серебряной цепочке вместе с часами, кое-как отпер дверь комнаты Вукашина, вошел туда и, отрешенный, замер перед их общей фотографией той поры, когда он верил, что в Сербии нет более счастливого отца, чем он, когда народу моравскому он был и законом, и опорой. Когда он мог повернуть Мораву в Ибар… На стене темнел их с Вукашином снимок. Он хотел было зажечь спичку, чтобы увидеть сына, но рука задрожала. Тогда он впервые лег на постель Вукашина — по сути, рухнул во мрак, который скрипел и грохотал: вот и Вукашин сегодня ночью отец. И он не спит. И у него уходит на войну сын. Мой внук Иван, которого я не видел ни разу. Как и ту женщину, Милену. Что же это за сила и призрак такой вырыл пропасть у него в доме? Почему люди одной крови так схватились между собой у очага Катичей?
Стемнело, и все смешалось в нем. Постель Вукашина не принимала его. Он вернулся к себе и лег. Тола все играл, светало. Для войны. Первый ее день.
Если Адам не вернется с войны, то на руинах домашнего их очага поселятся сычи и летучие мыши. Бродяги и дожди разнесут дома и постройки. Сгорят изгороди Толы, и люди растащат все, что можно тащить. Одичают виноградники. Зарастут бурьяном луга и поля. Голытьба порубит яблони и сливы.
Господи, есть ли ты? Сохрани мне Адама! Ты знаешь, что он весь моя кровь и корни его у меня в душе. Теперь он для меня все, чем я жил, и все, что останется после меня. Спаси мне его, господи, не дай истребить все сербское.
6Солнце лежало на нижних ветках ясеней, когда Адам перед конюшней вскочил в седло и подъехал к Джордже, оцепеневшему посреди пустого двора. Адам спешился и поцеловал отцу руку, потом выпрямился, высокий и глазастый, в мать; сверху вниз смотрел он на отца повлажневшими глазами.
— Коли ты вырос таким высоким да красивым, неужели тебе нужно скорее попасть в армию, на войну? — прохрипел Джордже.
— Представь себе, что я калека. Тогда ты бы каждый день видел, будто я ухожу на войну.
— Не так бы мне было.
— Если б не ушел я сейчас вместе со всеми, я бы возненавидел само солнце.
— Зачем ты вырос у меня, сынок?
— Ничего со мной швабы не поделают. Не беспокойся, батя.
Он еще что-то сказал и нагнулся, чтобы обнять его и поцеловать в обе щеки; Ачим стукнул посохом именно в этот миг, когда увидел, как Адам целует отца, с ним он попрощался в комнате, а с бабкой Милункой и мачехой Зоркой в кухне, потому что отец так велел. Отец провожает на войну сына, это последнее, что принадлежит мужчинам. Быть одним, когда сын уходит: видеть сына и слушать отца. Адам обнял и поцеловал его в обе щеки, так впервые в жизни. Конь плакал, плакал, как отец, пока они прощались. Давно известно, отчего плачет скотина. Он, Джордже, не мог двинуться с места, врос в землю, камни обступали, зализали, как вода, по самое горло, до яблочка, был он в камнях; стиснули его камни, еле слышалось:
— Обещай мне, Адам.
— Что тебе обещать?
— Прошу тебя, сын.
— Все сделаю, скажи.
— Пока война идет, не гоняйся за юбками.
Адам своей улыбкой затмил ясени и что-то сказал. И исчез. Гудела земля, на улицах пели и орали сыновья Толы и Чаджевичи. Ясени окружили его, опутали своей тенью и ветками, и не видел он, как Адам шел по улице, где пели сыновья Толы и Чаджевичи.
На пороге бондарни цвел разрезанный на куски красный арбуз, и два несъеденных ломтя столкнулись, покачиваясь словно лодки. Джордже вырвался из объятий камня, подошел к арбузу, взял его на руки, унес во тьму бондарни, поставил на бочку и заплакал.
Пришел Тола, уселся на пороге:
— Беде, Джордже, все нужно назло делать. Никто на земле не сумеет это человеческое «назло» победить.
Тола еще что-то пробормотал и скрылся в саду.
В сумерках Ачим нагнулся над Джордже:
— Надо, сынок. Швабы напали, надо. Проклято сербское племя и семя. Войны чаще неурожаев и наводнений. Нужно терпеть. Вставай.
7От таких осенних дождей и у птицы под крыльями не бывает сухо. А что с человеком станет? Если он не может и не смеет даже костер разложить. А ливень на всю ночь, думает Джордже.
Прислонившись к стене, стоит он под жестяным навесом, по которому стучит дождь, и слушает причитания, что раздирают село. Куда поначалу: к Вукашину, в Ниш, умолять, или с Толой на позиции, к Валеву? Больше пятнадцати лет не видел он Вукашина, надо немедля к нему ради Адама, если у брата-не брата есть душа, если не позабыл он, что родила их одна и та же мать, что одной грудью они вскормлены, а то, что его ученье в Париже он оплачивал и на это последнее рождество он, Джордже, триста дукатов Вукашину дал, пусть ему господь простит. Но сперва к Адаму. Кто знает, где он теперь? Сперва в Валево. Здесь он узнает, где находится Моравская дивизия второй очереди. Если это еще известно. В колодце сына укроет, пока прогремит фронт. А потом? Потом одних — слезами, других — дукатами. Пусть сидит Франц Иосиф, Вильгельм германский, пусть сядет хоть Йоса Цыган, сын был бы жив. Пусть раб, да живой. Окаменев у стены, слушал: Прерово на заре превращалось в кладбище. Несло из хлевов и конюшен.
Дома Ачим сердито стучал палкой об пол: муку мыкал. Страх или зло одолевают его, когда он берет палку в руки, когда, держась за палку, рассуждать начинает.
С улицы окликали его женщины, подходили к забору — Джордже по голосам узнавал их. Мобилизовали у них сыновей, с рассветом уйдут по команде. Одновременно, заглушая друг друга, просили.
— Все, что нужно, берите.
— Денег бы.
— По сотне хватит?
— Много. Как такие деньги вернем?
— Деньги мне вернут ваши. Когда с войны придут.
Он давал им, радуясь, что может давать, думая об Адаме: тот любил оделять бедняков; все, что ни попросили бы, отдал. Надо бы богу об этом знать.
Он входил во двор Толы не спеша, мокнул на дожде, с влагой и стужей проникал в него Адам; всю ночь под дождем, голодный, без сна. Если без сна. Если промок. Если озяб. Пусть только мокнет. Пусть не спит. Пусть зуб на зуб не попадает у него от дождя и холода.
Постучал в окошко, вызвал Толу, встретил его в дверях:
— Ты уж одет?
— Сон я видал: разнесло ствол у пушки Алексы. Здорово лопнула, словно из бузины. Вот я оделся и слушаю дождик. Я так думаю, Джордже, мертвому тяжелее всего под дождем.
— Слышишь, все погибли. Уничтожают швабы Сербию.
— Гибнут. Но все не погибнут.
— А что, ежели все вдруг погибнут?
— Существует, надо полагать, некто, кто в этой вселенной и беде определяет меру и век людской.
— Ежели и существует, не могу я только на него надеяться. Давай в Валево съездим, разыщем Адама с Алексой.
— Поехали. Отвезем ребятам немного еды и бельишка переодеть.
— Как рассветет, поедем. Собирайся. Приходи и бери все что нужно.
8Тола Дачич остался стоять в дверях, уперся ладонями в косяк и шепчет вслед уходящему Джордже: не надо мне твоего, хозяин Джордже. Не хочу дареное на фронт везти. Не желаю. Из моей руки все должно быть. Что им отвезти? Он направился к сливе, где в ветвях ночевали куры. Петух у него один, а солдат трое. Один петух у него, а в мирную пору восемь работников из его дома перекапывали преровские земли, на войне четыре солдата, четыре Дачича вышли против державы швабской. Знал бы, что в путь отправляться, разжился бы в ночь индюками. Подходящая ночь индюков ловить. Полный мешок можно было б набить. А у кого куры на низких насестах сидят и кто хорошо кормит скотину?
Пробирался Тола преровскими сливовыми садами, осторожно перескакивая изгороди: не тронет он тех, у кого есть погибшие. И тех, кому уходить на рассвете. А у тех, кто никого не проводил на войну, кто спит и, подобно кротам, пережидает войну, у тех заберет он петухов и отдаст их своим героям. Собаки, почуяв его, залаяли; женский плач слышался из овинов. Он укрылся под низким айвовым деревом: вот заячья душа, не воевал ни против турецкого, ни против болгарского царства и сейчас не идет против швабов. Тола ловил чужих кур, щупал у них хвосты и гребни, искал петухов. Птицы всполошились, кудахча посыпались с дерева, петухи взлетели на шелковицу; с пустыми руками перепрыгнул Тола через изгородь, пошел дальше, спешил к насестам на шелковице; вот этот жулик на каторге, его голова в безопасности. Негоже, чтоб у него еще жена жареных петухов вкушала. Однако куры у него тоже продувные, на самой верхушке устроились. У воров все воровское. Спешил Тола, припоминая, чьи куры обычно ночуют на деревьях вдоль обочины. Искал низкие насесты, никак не мог найти петуха. У кого низкий насест — сплошной плач в доме стоит; а там, где спят и все тихо, куры на самые верхушки деревьев забрались. По селу разносился плач, лай, кудахтанье.