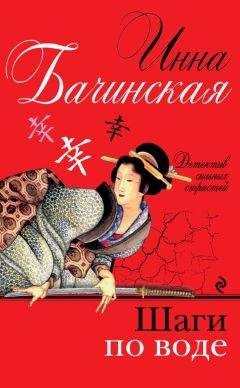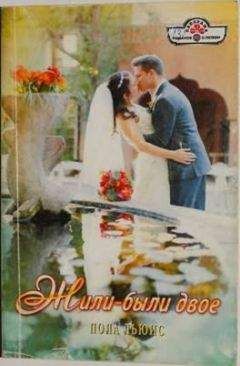Юлий Крелин - Переливание сил
Пока мужчина до чего-нибудь додумается, женщина уже это почувствует. Обманывать себя мы начинаем с самого детства. Впрочем, правильно ли обобщение — мы? Может, только я. Вообще я давно заметил: как начинаешь обобщать, так и ошибаешься; пожалуй, не стоит никогда обобщать.
Передачу дневника я обставил помпезно и сделал это в день своего рождения.
Следующая встреча на бульваре, на скамейке.
— И ты все это думал?
Молчу.
— И ты все это переживал?
Молчу.
А сам пою внутри. Мне кажется, что все в порядке. Судя по тону.
— Ты знаешь, я весь день сидела на окошке и все думала: люблю я тебя или нет?
Мычу. Потому что не знаю, что говорить в этих случаях, а молчать, понимаю, нельзя.
— Я не уверена, что люблю тебя. Во всяком случае, так же, как ты.
Молчу и мычу.
Ну вот, тут-то бы и обнять. А как? Не знаю. То есть технологию знаю — психологию не знаю.
Какая чудовищная, чудесная беспомощность!
Ничего не помню. Помню только, что долго мы еще сидели на этой лавочке. Голова ее лежала на моем плече. Я обнимал ее за плечи!
Обнимал!
Рука висела над ее плечами. Я боялся как следует дотронуться. И рука мне казалась защищающим ее шатром. Все мне было так ясно тогда!
А потом (через много дней) мы целовались, целовались... Целых два года целовались. Я про стихи все узнал и про Блока. И в консерваторию ходили.
Дневник я больше никогда не вел (пришпоривать, по-видимому, надо лишь детскую неповторимо трусливую любовь).
И ссорились часто. Часто из-за ребят. Я начинал хвастаться ими. Я говорил, что это все мои друзья. А она говорила, что этого не может быть. Друг может быть один. Ну два. А семь! Семерых друзей сразу настоящих быть не может.
Она, конечно, права была. Но только так вот, всемером, мы и до сего дня. И все друзья. Двадцать один год уже. Все семь. Вот не бывает, а факт.
* * *
Часов в пять утра я вдруг подумал, что сейчас она проснется в здравом уме и меня узнает.
И я ушел в дежурку.
Я не хотел предстать перед ней в роли спасителя. Хотя это так выигрышно и приятно. А тут испугался.
Неужели я испугался ее реакции на штопаное лицо?!
Нет, я испугался просто потому, что мне всегда было легче с ней встречаться, когда можно было подставить свою шею, а она могла ее бить. Вот! Мне так было легче. А быть в ее глазах спасителем, мне!.. Сил не было.
Дальше будет видно, а пока я смотался из палаты. Дальше будет видно, а что было, я помню...
* * *Из-за своего шалопайства школу кончил я на год позже всех.
У нее была первая сессия в университете. А у меня были еще школьные каникулы.
Сегодня она сдает экзамен.
Как я бегал к школе, когда она сдавала на аттестат зрелости!
Как я бегал, искал подарок, когда она получила золотую медаль!
Как я любил ее! Как я целовал ее!
Мальчик!
А сегодня уже экзамены в институте.
И вдруг я чувствую, что мне неохота идти к ней. Мне хочется пойти к ребятам. Ведь у них тоже у всех экзамены.
Да что же это? Почему я не хочу идти к ней?
Позвонил.
— Как сдала? — Отлично. Ты придешь?
— Ммм.
— Что-что? Не поняла.
(И я не понял).
— Приду.
— Ну я жду.
Я шел медленно и думал, думал. И додумался до того, какой я честный, порядочный. Я шел медленно и любовался собой. Своей честностью, своей порядочностью.
— Знаешь, Тань, я не люблю тебя.
— Что?!
— Я понял сегодня, что не люблю тебя.
— Что?!
— Я понял сегодня, что не люблю тебя.
— Не понимаю. К чему ты?
— Вот что-то не хотелось мне приходить сегодня. Значит, не люблю.
— Это вовсе не значит.
— Нет, если бы я любил, я хотел бы прийти к тебе. А я хотел к ребятам пойти,.
По-моему, она плакала. А может, нет. Я себя уже начинал с ужасом слушать.
— Нет. Это не любовь. Я решил честно тебе сказать. Раз не люблю — надо честно сказать. Иначе это будет обман.
— Принеси мне завтра мои фотографии и кинь их в ящик почтовый. И уходи. Быстрее, быстрее...
— Я решил, Тань, что так будет честнее. Ведь иначе я обманываю тебя.
— Уходи быстрее. Я очень прошу тебя.
— Честность — ведь это главное, правда, Тань? Ведь не должны же мы...
— Уходи, уходи, уходи быстрей.
Она говорила шепотом. Я встал и продолжал:
— Честность — ведь это главное. Правда, Тань? Мы ведь с тобой...
Я шел домой и любовался своей порядочностью. Что-то было еще в моем любовании.
Честность.
Ублюдочная честность. Какую подлую пулю я отлил из честности! Я использовал честность, как ростовщик вексель.
Фашист.
Поставил первую в моей жизни двойку.
А как я ее любил! Как я ее осторожно целовал!
Только вот мы часто ссорились. Из-за ребят.
Такие хорошие были ссоры...
Через несколько лет Таня подарила мне книгу и надпись сделала: «С благодарностью за полученный урок».
А урок-то в конечном счете мне, да только, может, уже поздно.
* * *
Я вспомнил все наши встречи, мы встречались после много раз. Я охотно с ней встречался, радостно, но невыносимо предстать пред ней в роли спасителя!
Невыносимо!
Насколько легче быть виноватым: тебя бьют, ты терпишь, тебе легче. И вдруг все поломалось...
Все сначала. Как спокойны были безликие, светские встречи! Были встречи, и никаких воспоминаний.
Так было легче.
А теперь все начинай сначала.
Я опять вспоминаю нашу встречу, когда мы думали, что можем отмечать двадцатилетний юбилей, кстати, я потом подсчитал: оказалось, что в тот год было лишь девятнадцать лет, но это неважно.
Сегодня наша первая ночь, проведенная вместе от начала и до конца.
А я помню, как мы встретились и расстались в последний раз перед сегодняшней ночью.
* * *
— Здравствуй, милый! Как я рада видеть тебя!
И я всегда рад ее видеть. Что бы она ни говорила.
—Ученый, ты жизнью доволен?
— Доволен.
— Ты доволен только собой или жизнью?
— Жизнью.
— А ты что-то меньше самодоволен, чем раньше. Какой большой стал! Или толстый?
— Как у тебя-то дела?
— Да все так же. Работаем. Мама уехала отдыхать. Мы на даче. А вы все теперь такие недоступные! Важные стали. Кого ни встретишь. Одно и то же. Все ученые, даже те, что не ученые. Я все Витьку встречаю. Я вас все равно всех люблю. Очень хочу повидать вас.
— И мы, Таня.
Улыбка все ж у нее немножко снисходительная, пьедестальная.
— Ты ведь живешь напряженной интеллектуальной жизнью. Или тебе, наконец, надоело? Читаешь много, да?
— Много, да.
— Театр ты не любил. Редко ходил. И сейчас мало бываешь, да?
— Да.
— Дай мне твой новый адрес. Может, сообщить что-нибудь придется. Телефона ведь нет?
— Нет.
— Мне сюда. Звони. До свиданья.
— До свиданья, Тань.
* * *
Помню, после одна наша общая приятельница услужливо сказала мне, что во времена нашего расставания у Тани был горячий роман на факультете. Все не так трагично.
Трагично! Для кого?
Речь идет обо мне.
* * *
— Кто там?
— Это я, Таня.
— А, заходи, дорогой, заходи. А я совсем здорова. Видишь, хожу без палочки и совсем не хромаю.
Она прошлась по коридору и вернулась обратно.
— Ну как?
— По-моему, даже походка прежняя.
— Ну конечно, по линии скромности у тебя прежняя недоработочка. И если мы выйдем на яркий свет, ты, конечно, скажешь, что на лице моем изъянов никаких?
— Я бы сказал, но не мне судить. Лично мне нравится.
— Ты моя прелесть! Вам, ученым, даже когда вы врачи, нужен объективный подход или еще что-то сложное.
— Да, уж такие они, ученые, уроды.
— Нет, дорогой, это я теперь урод — навсегда. А что ж ты один пришел? Ни Витьки, ни Толи, ни жены? Ах да, ты навестил свою больную. У меня все прекрасно, доктор, все замечательно. Кофе будешь?..
1963 г.
РИСК
— Ну а теперь что?
— Теперь жду, что будет дальше. Не выхожу из отделения.
— Ты даешь! Шеф-то как?
— Стараюсь на глаза не попадаться.
Громадный, неправдоподобный рост. Такой большой человек должен быть только хорошим. Если при таких размерах да еще быть плохим — было бы нечто фантастически ужасное. Я всегда получаю эстетическое наслаждение, глядя, как он оперирует. У него большие руки. Правильные руки. Богом данный хирург. Такие, наверное, редко рождаются.
На третьем курсе он ловил на улице беспризорных собак и устраивал из профессорской папиной квартиры и экспериментальную операционную и виварий. Учился давать наркоз. Учился оперировать. Бедные родители!..
После института, где-то на селе, он уже оперировал, как я стал только сейчас. Попробуй заставь такого писать подробные, как у нас говорят, «для прокурора», истории болезни. И до сих пор пишет истории болезни так, что показать их начальству или студентам невозможно. Он слишком большой и широкий для педантичных записей. Он и не ученый в привычном смысле слова, а просто Большой Хирург.