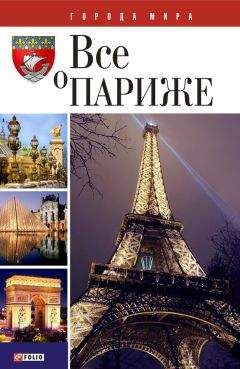Джонатан Франзен - Безгрешность
– Просто не готовь мне больше жареных баклажанов, – сказал я.
– Я серьезно, Том. Мне нужна твоя помощь.
Я согласился. Мы пошли в ее рабочую комнату, куда мне давно не было доступа, и она, робея, показала мне несколько впечатляющих кинофрагментов. Недоэкспонированный черно-белый крупный план куска ее левого бедра, вручную обработанный так, что создавалось впечатление темных океанских волн. Неидеально синхронизированный, но очень смешной монолог о коленных чашечках. Тревожащий душу монтаж: кадры, снятые на платформе метро, перемежаются с трупно-белым большим пальцем ноги, к которому прикреплена бирка с ее именем, – монтаж, наводящий на мысль, что она думала прыгнуть под поезд. Я с таким жаром все это похвалил, что она открыла передо мной свои записные книжки.
Раньше она строжайшим образом оберегала их от моих глаз, и то, что она теперь позволила мне их увидеть, говорило о ее отчаянии. Это не были страницы, которые я воображал, со сценариями, написанными элегантным почерком. Это были дневники мучений. Одна запись за другой начиналась с перечня дел на день и переходила в самодиагностику, к концу становившуюся почти нечитаемой. Далее – новая страница с аккуратной таблицей для последовательности кадров, но в ней что-то написано только в нескольких первых квадратах, затем в эти соображения внесены поправки, затем она вычеркивала эти поправки и писала на полях новые, соединяя линиями разные места и выделяя главное тройным подчеркиванием, а затем ставила на всем этом большой злобный косой крест.
– Выглядит, я знаю, довольно удручающе, – сказала она, – но поверь, тут есть хорошие идеи. Зачеркнуто, но на самом деле не зачеркнуто, я продолжаю об этом думать. Мне надо, чтобы оставалось зачеркнутым, иначе слишком сильно на меня давит. Что мне по-настоящему нужно – это пройтись по всем записным книжкам (их было у нее не меньше сорока), а потом постараться удержать все это в голове и составить четкий план. Проблема в том, что всего так много. Я не сошла с ума. Мне просто нужно как-то так упорядочить материал, чтобы не давил на меня слишком сильно.
Я верил ей. Верил в ее ум, и у нее действительно были хорошие идеи. Но, листая эти записные книжки, я видел, что у нее нет шансов довести свой проект до конца. Она, которая так долго казалась мне всемогущей, была для этого недостаточно сильна. Я ощутил груз ответственности, я должен был вмешаться раньше, и сейчас, хоть я и был сыт нашим браком по горло, сыт до тошноты, я не мог уйти, пока не помогу ей выбраться из трясины, в которой позволил увязнуть. Я надеялся, что брак избавит меня от чувства вины, однако он его только усилил.
Но чувство вины – пожалуй, самое коварное из того, что может испытывать человек: чтобы уменьшить свою вину, я остался тогда в браке, и именно это потом, после развода, сильнее всего заставляло меня чувствовать себя виноватым. После того вечера она, точно впервые увидев, что я могу ее оставить, начала заводить разговоры о полутора годах, спустя которые мы с ней могли бы зачать ребенка – девочку (о мальчике она даже и не помышляла). Смысл был отчасти – поставить себе цель и определить крайний срок для того, чтобы довести свой проект до областей выше живота, но, кроме того, она ради меня старалась быть более реалистичной: беременность нельзя откладывать бесконечно. Я видел, что ребенок, возможно, то самое, в чем мы нуждаемся, что он может спасти нас, но я видел и то, что, пока она работает над своим проектом, главное бремя заботы о ребенке, скорее всего, придется нести мне. Так что я, когда она начинала такой разговор, всякий раз переводил его на ее проект. Хотел ли я, чтобы она поторопилась с ним и мы растили ребенка вместе, или я просто хотел, чтобы она более-менее пришла в норму и я имел моральное право с ней развестись, я – честно скажу – не могу вспомнить. Но я точно помню, что мне достаточно было подумать о тошнотворном запахе жареных баклажанов, чтобы этот запах ударил мне в нос. Если бы я послушался своего желудка и расстался с ней тогда, она, может быть, успела бы родить от кого-нибудь другого.
– Радикальное предложение, – сказал я ей в ее рабочей комнате наутро после того вечера со спагетти. – Увеличь свои куски в десять раз. Я могу помочь тебе разработать план, составить общий сценарий, чтобы ты не держала все в голове. А потом сделаешь фильм за два года.
Она отрицательно мотнула головой.
– Я не могу на полдороге менять размер кусков.
– Сделай их в десять раз больше и пересними всю ногу за два месяца. Ты можешь использовать лучшее из уже снятого, где нет твоего тела.
– Я что, должна выбросить на помойку восемь лет работы?
– Но это даже не оконченная работа. – Я показал на башни из неоткрывавшихся коробок с обработанной пленкой. – Ты должна взять себя в руки и довести дело до конца.
– Ты же знаешь, я никогда ничего не довожу до конца.
– Самое время начать доводить, тебе не кажется?
– Я знаю, что делаю, – сказала она. – Твоя помощь мне нужна не для того, чтобы выбросить восемь лет работы. Я просила помочь мне упорядочить массив идей, которые у меня уже есть. И теперь мне ясно, что напрасно просила. Ох, ну какая же я дура!
Она принялась бить кулаками свою дурную голову. Мне понадобилось два часа, чтобы ее утихомирить, и еще час, чтобы самому выйти из уныния, в которое она меня ввергла, заявив, что мои эстетические представления вульгарны. Потом я три часа помогал ей набрасывать примерный график завершения проекта и еще час потратил на то, чтобы начать переносить важные соображения, содержащиеся в первой из ее сорока с чем-то записных книжек, в новую тетрадь, свою. Потом настало время для ее трехчасовых упражнений.
В следующем году у нас было много подобных дней. Десять часов я, бывало, трудился над последовательностями кадров для нее, которые казались мне вполне приемлемыми, чтобы услышать, когда приходила пора для ее упражнений, что у нас, по ее мнению, получается мой журналистски организованный фильм, а не ее фильм, и назавтра она весь день старалась мне втолковать, какие последовательности ей нужны, а я не мог схватить ее общую логику, и она принималась объяснять сначала, а я все не мог схватить эту логику, и наступало время для ее упражнений. Страдала моя собственная работа, я упустил возможность освещать избирательную кампанию Дукакиса для журнала “Роллинг стоун”, я терял друзей, как теряют их наркоманы, отменяя встречи в последнюю минуту. Наша наркомания вошла в гадкую “фазу поддержания”: ни грана радости утром, только тяжесть вчерашних неразрешенных проблем. Так у нас шло, и шло, и шло бы дальше, если бы моя мать не получила смертный приговор.