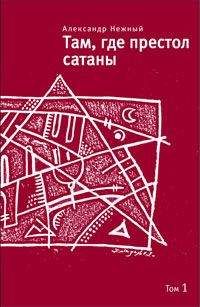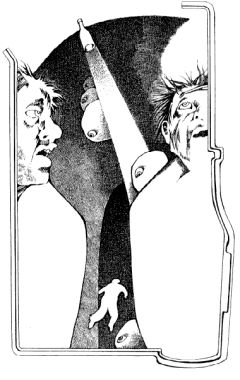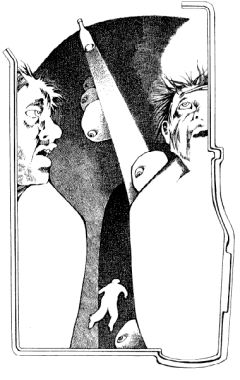Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
В оное утро егда въсходящю солнцю ударили в набатъ. Притек народъ. И ему в слухъ глаголали боляре, что-де Лаврентейто не князь, а песъ безродной, ату ево с княжьства. Народъ весь закричал и побежал к дому Лаврентея и слушати не сталъ дьяка Тимофея, увещавшаго, что-де вы аки робятки несмыслены, вам што скажут, вы в то и верите. Сказали – князь, ин ладно, пусть; сказали – песъ, ну и ладно, айда ево бити до смерти. Ему дали палъкой по главе, он замолчал и упал. У дома Лаврентея стали вопити: князь безвременной! песъ! проспался ли ты со своею сучкою? Он вышел на порогъ с саблею в деснице и глаголал дерзко: иди, кто храбръ. Первый наскочил, он ему главу порубилъ; и втораго положил бесдыхана; а вот третьяго не поспел. Тот ему грудь копием насквозь пробил. Лаврентей очи возвел и глаголал сице: гулял младъ вниз по Волге, да набрелъ смерть близ не в долге. И умерлъ. Царствие небесное. Схватили посемъ Тамарку и Васятку. А што с ими делати? Пустити с миромъ? А Тамарка войско ливонское сберетъ и пойдет на покшаньския и дубостеньския земли и град наш будет воевати, таче што? Удавить их решили. И ту, и мальца. На брегу Покши поставили висельницу и повлекли ихъ, собакъ, щенка и сучку. Время бысть к зиме, холодъ, дозжъ, и мальчонка плакал силно, мамка, мамка, я-де озяб! куда нас ведут?! Она молчит, ровно онемела. Молчком и повисла. Сынок ея как увидалъ, что ноги у мамки дергаютися, и как услыхал, что она захрипела, зарыдалъ еще пуще прежняго. Зачем, глаголалъ, вы так с мамкой содеяли?! А невдолге и самъ ножками стал сучити. В отца, в Лаврентея, бысть он лицем своим. Превеселый бысть мальчонка и смеяхуся звонко. Невинное дитя, у Господа он ныне в рае. А не он – так кто же?
Все они – самозванцы, уже от себя пометил на полях своей летописи Игнатий Тихонович, и Сергей Павлович, прочитав, даже и гадать не стал, кого имел в виду сотниковский Нестор. И так ясно.
Еще была пометка: этот Васятка кричал на всю Россию. И сейчас слышен на просторах возлюбленного Отечества его крик, исполненный ужаса и тоски.
10
Рано утром Сергей Павлович звонил в Москву, Ане. Опять дышало ему в ухо разделяющее их пространство, опять слышна была невнятная разноголосица, теперь, однако, с явно звучащей в ней ухмылкой над его ожиданиями, и опять – о небо! – на телефонный трезвон первой откликнулась старая леди, голосом, впрочем, несмотря на ранний час, вполне свежим, должно быть, после гимнастики и контрастного душа. Со своей стороны голосом железным он попросил Аню.
– А-а… это вы, – услышал Сергей Павлович. – Ани нет.
Уж в ее-то словах точно прозвенела торжествующая литавра. Он в растерянности глянул на часы. Семь без пятнадцати. Не может быть!
– Нина Гавриловна, зачем вы говорите неправду! – без всякого металла, но с отчаянием закричал он. – Аня дома, я знаю! Как вам не стыдно!
– Это вам должно быть стыдно, – торжественно объявила она.
Конец связи. Всему конец. Старая леди. Старая дура. Анечка, прости. Но отчего ты не ждешь моего звонка? Отчего не кидаешься к телефону? Или ты не хочешь со мной говорить?
После краткого размышления он назвал телефонистке номер Зиновия Германовича. Пять минут спустя из коммунального коридора донеслось покашливание. Кхе-кхе. Вздох. Бормотание, в котором можно было различить упоминание имени Господа, привычное, как утреннее очищение. Слабый старушечий голос ответил затем, что Зиновий Германович еще спит.
– Прошу вас, – умоляюще сказал Сергей Павлович. – Я его… – Он замялся: друг? товарищ? и память недремлющая тут же подсунула с издевкой: и брат. Он выбрал среднее: – товарищ. Я не в Москве, и он ждет…
Наконец, сонный Цимбаларь ему откликнулся.
– Зиновий Германович! – быстро заговорил доктор. – Зина! Вы меня слышите?!
– Слышу, слышу… – Цимбаларь пробудился, встрепенулся и повел мощными плечами борца, признательно кивая лысой головой соседке-старушке в косынке, прикрывавшей розовые проплешинки и еще не снятые бигуди. – Сережинька! У вас…
– Зина, – перебил его Сергей Павлович, – я вас очень прошу… Дозвонитесь Ане! Слышите? Дозвонитесь и скажите, я буду звонить ей завтра между девятью и десятью вечера. Пусть непременно будет у телефона! Слышите? Я ей два раза звонил… второй раз сейчас, только что, перед вами… но там мама, Нина Гавриловна, она меня терпеть не может и говорит, Ани нет дома. Зина! Она неправду говорит! Если я Аню обидел… я невольно ее обидел и хотел ей сказать, для чего и звонил, что не она виновата, а все, что вокруг… Я так и написал в том письме… Вы его не потеряли? Я ее люблю, она единственный во всем мире для меня человек! Я жизнь мою без нее представить себе не могу! Зина! Я места себе не нахожу. Хоть все бросай и назад… Мне тут еще два дня, вряд ли больше…
Он уже кричал в трубку, так, что слышно было и молоденькой телефонистке, не без сочувствия поглядывавшей на симпатичного мужчину в будке, с утра пораньше горюющего о размолвке с любимой. В наше время таких днем с огнем. Она вздохнула, вспомнив, как лапал ее вчера Колька Анисимов, лез под юбку и все норовил завалить прямо на пол в комнате Вальки Прокофьева, такого же алкаша. Еле отбилась. А других здесь и нет. Из своего коридора кричал в ответ Зиновий Германович.
– Она переживает за вас ужасно! Я ей звонил, едва не плачет, я вам клянусь! Она уверена, и мне сказала, вам в этом городке небезопасно… Хотите, я сегодня же отправлюсь. Вашим телохранителем! Баня на ремонте, я свободен. Хотите?
Отклонив предложение Зиновия Германовича и еще раз наказав ему дозвониться Ане, Сергей Павлович вытащил папиросу и выскочил на улицу. Красное солнце выплывало из-за дальнего, за монастырем, леса, в ясном небе медленно таял трехчетвертной месяц цвета тополиного пуха. В разных концах града Сотникова, как пароходы на реке, басовито ревели коровы. Пронесся мимо уазик, за рулем которого в черных очках с белыми обводами и в цветастой рубашке с короткими рукавами сидел вчерашний тонтон-макут, озабоченный – написано было на лице – предстоящей встречей депутата и писателя с народом. Спешил. Вполне возможно, однако, что другая цель с неотразимой силой его влекла – красавица-еврейка, отправившая мужа в деревню прививать свиней от чумы и рожи и ожидающая Шурика в постели, еще хранящей очертания тела законного супруга и его тепло.
Доктор Боголюбов посмотрел уазику вслед и отметил благотворное действие вчерашнего ливня, прибившего дорожную пыль. Но хватит, хватит топтаться на месте! Не так все безнадежно. Зиновий Германович предупредит Аню, завтра вечером она возьмет трубку, и он скажет ей… А еще через пару дней он будет в Москве, и они встретятся и пойдут под венец, предварительно посетив отдел записей актов гражданского состояния. Не разлучаться. Ведь так?! Папа нас приютит. И старая леди смирится, увидев, как счастлива в браке ее дочь.
Сергей Павлович бросил папиросу и быстрым шагом двинулся по направлению Юмашевой рощи. Он все продумал. Осторожность прежде всего. В конце концов, Дмитрий не зря предупреждал. Запросто проломят голову или сделают еще какую-нибудь гадость. Николай-Иуда и его подручные, мастера мокрых дел. Неприятным ощущением отозвалось в затылке. Охраняйте меня, Симеон преподобный и Петр Иванович. Берегите от злобного ока, все за мной примечающего, а оно точно за мной следит, я знаю, только понять не могу: кто. Но сегодня только разведка. Никаких поползновений, даже если вдруг на расстоянии вытянутой руки окажется тайник, где почти семь десятков лет хранится и ждет своего часа Завещание.
Монахов в монастыре всего пятеро, Дмитрий сказал. Однако уже и старец среди них, Варнава, сорока трех лет, к нему народ, батюшка, благословите корову продать. Или поросенка купить. Благослови, отче, отыскать Завещание и огласить его в слух всего народа. Я тебя благословлю посохом по башке. Иди отсюдова, покуда цел, а не то укажу на тебя моим богомольцам как на антихристова слугу и заказывай по себе сорокоуст, коли успеешь. Ну вот. К чему так дурно. Слуга Христов, достойный человек. Решил прожить земной короткий век в обители, творя дела любви.
Найди. Благословляю. Угодна Богу правда. Он миновал баню, автостанцию, перебежал тихую в этот час дорогу, пересек овраг, углубился в рощу и затем на ее опушке взял налево и пошел вдоль высокого песчаного обрыва в сторону большого моста через Покшу. Слышно было, как по нему с громким шелестом пролетали редкие машины. Превращаясь в легкую белую кисею, над старицами истаивал туман; вдалеке, на пологом длинном склоне, как овцы в стаде, теснились один к другому окраинные дома града Сотникова, над которыми в низких еще солнечных лучах, будто маяк, то вспыхивал ослепительным светом, то угасал золотой крест Никольской церкви; а впереди, там, откуда поднималось солнце нового дня, Сергей Павлович видел белые стены Сангарского монастыря и с неспокойным сердцем вглядывался в них, словно пытаясь угадать скрывающуюся за ними свою судьбу. Однако с горькой усмешкой он тут же обличил себя в свойственном человеку, но напрасном желании приподнять краешек завесы, отделяющей его хотя бы от завтрашнего дня. Разве он Даниил, в вещих снах которого, облеченные в таинственные образы, проплывали судьбы мира – от глубокой древности до наших и следующих за нами дней? Разве когда-нибудь говорил его устами Господь? Разве может с уверенностью сказать он сам о себе, что через два дня будет в Москве, увидит пока невенчанную свою жену, обнимет ее и поклянется всеми святыми, что эта их размолвка – первая и последняя? Он стоял на обрыве – один среди исполненного чудной красоты мира с его позлащенными, поднявшимися к небесам соснами, ласкающими взор плавными поворотами реки, склонившимися к тихой воде целомудренными ивами, зеленым ковром лугов, и всем своим телесным составом и встрепенувшейся душой ощущал себя неотъемлемой частью мироздания, таким же творением милосердных и любящих рук, как деревья, река, травы, птицы и рыбы, и безо всякого страха, но с торжественной печалью думал о своем неизбежном конце, жалея лишь о том, что и после него все так же будет ликовать жизнь, которой он уже не будет причастен. И разве пристало ему рассуждать, когда это случится: сегодня, завтра или через десять лет? И сосна упадет, и плакучая ива ляжет на землю, и птица уснет вечным сном в гнезде или ее сердце разорвется в полете – но разве тень последнего дня омрачает счастье их бытия?