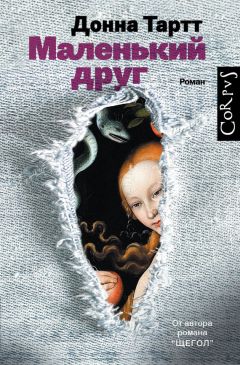Донна Тартт - Щегол
А иногда, ни с того ни с сего, до боли остро – я вспоминал отца. О нем мне напоминали блеск и грязь Чайнатауна, его переменчиво-неопределенная атмосфера: зеркала и аквариумы, витрины с искусственными цветами и горшками “счастливого бамбука”. Бывало, я шел на Канал-стрит, чтобы в “Перл-Пейнт” купить Хоби трепела и венецианского терпентина, а в результате забредал на Малберри-стрит, где у отца был любимый ресторанчик, неподалеку от станции метро линии “Е” – восемь ступеней вели в подвал с заляпанными пластиковыми столами, где я заказывал хрустящие блинчики с шалотом и свинину в остром соусе, тыча в них пальцем, потому что все меню было на китайском. Когда я первый раз вернулся домой, нагруженный промасленными бумажными пакетами, так и замер, увидев недоумевающее лицо Хоби, и стоял там посреди комнаты, будто лунатик, который очнулся ото сна, и спрашивал себя, о чем я вообще думал – уж точно не о Хоби, который был не из тех, кому подавай китайскую еду двадцать четыре часа в сутки.
– Ой, это я люблю, – заторопился Хоби, – просто мне такое обычно и в голову не приходит.
И мы с ним поели в мастерской, прямо из картонок. Хоби сидел на табурете в черном рабочем фартуке и рубашке с закатанными до локтей рукавами, и палочки в его больших руках казались до странного маленькими.
3Еще меня волновало, что я живу у Хоби неофициально. Хотя сам Хоби, по своей рассеянной доброте, против меня ничего не имел, мистер Брайсгердл явно считал, что это только временная мера, а потому и он сам, и мой соцпедагог в школе из кожи вон лезли, рассказывая мне, что, хоть общежитие предоставляют только студентам постарше, в моем случае можно что-нибудь придумать. Но едва заходил разговор о том, где мне жить, я умолкал и принимался разглядывать свои ботинки. Общежитие было забито под завязку, засижено мухами, коробка лифта, который грохотал, как тюремный подъемник, была исчеркана граффити, стены залеплены концертными афишками, полы липкие от пролитого пива, в общей комнате с теликом на диванах храпит куча-мала зомбаков, завернутых в одеяла, а упоротые по виду ребята с растительностью на лице – по мне, так взрослые парни, огромные страшные двадцатилетние мужики – в коридорах швыряются друг в друга пустыми литрашками из-под пива.
– Ну да, ты, конечно, еще маловат, – сказал мистер Брайсгердл после того, как он припер меня к стенке и я поделился с ним своими сомнениями, хотя настоящую причину этих сомнений я никак не мог рассказать: как – в моем-то положении – мне делить с кем-то комнату? А охрана? А противопожарная система? А с воровством как? “Школа не несет ответственности за личные вещи учащихся, – было написано в выданной мне памятке. – Мы рекомендуем студентам застраховать все ценные вещи, которые они намереваются хранить в общежитии”.
Впав в нервный транс, я решил сделаться для Хоби незаменимым: бегал по его поручениям, мыл кисти, помогал ему составлять описи отреставрированной мебели, сортировал детальки и кусочки столярного дерева. Пока он обтачивал средники и остругивал новые ножки стульев так, чтоб они подходили к старым, я на плите плавил воск и смолу для мебельной политуры: 16 частей воска, 4 части смолы, 1 часть венецианского терпентина – выходила пахучая сливочно-коричневая гладь, густая, словно ириска, помешивать которую в котелке было одно удовольствие. Вскоре он уже учил меня, как класть красный полимент на меловой грунт для золочения: всегда надо было чуть-чуть отлакировать золото там, где его потом будут касаться руки, а затем втереть в трещинки и грунтовую основу капельку темной краски, смешанной с сажей. (“С патинированием мебели всегда больше всего возни. Хочешь состарить новое дерево, так золочение с патиной состряпать проще всего”.) Ну а если и после сажи позолота по-прежнему сияла новизной, свежестью, он показывал, как надо иссечь ее булавочным острием – маленькими, неровными царапинами различной глубины, потом позвякать по ней легонько связкой старых ключей и обдуть пылью из пылесоса, чтобы потускнела. “Если мебель сильно отреставрированная – так, что на ней не осталось ни потертостей, ни боевых шрамов, славное прошлое надо добавлять. Вся хитрость в том, – объяснял он, утирая лоб запястьем, – чтоб не быть слишком уж правильным”. Под “правильным” он подразумевал – “ровным”. Равномерно состаренная поверхность с ходу выдавала подделку; настоящая старина, которую я научился различать по прошедшим через мои руки подлинникам, была разнообразной, скривленной, в одном месте кричащей, в другом – надувшейся, она была неровными теплыми потеками на комоде розового дерева, там, куда в него било солнце, в то время как другая его сторона оставалась первозданно-темной.
– Что старит дерево? Да что угодно. Жар и холод, каминная сажа, когда кошек слишком много, или вот, – сказал он, отходя назад, пока я водил пальцем по загрубевшей, помутневшей крышке сундука красного дерева. – Как думаешь, что попортило крышку?
– Охххх, – я присел на корточки возле сундука, там, где полировка – черная, липкая, будто неаппетитная подгорелая корка полуфабрикатного пирога – перепархивала в чистое, густое сияние.
Хоби рассмеялся:
– Лак для волос. Копился десятилетиями. Представляешь? – сказал он и поскреб краешек ногтем – отлепилась черная стружка. – Старая кокетка использовала этот сундук как туалетный столик. За долгие годы он осел на сундуке как глазурь. Уж не знаю, что суют в эти лаки, но оттирать их – сущий кошмар, особенно те, которые были в пятидесятых и шестидесятых. А так, не загуби она полировку, интересный был бы лот. Нам только и остается, что почистить его сверху, так, чтобы дерево снова стало видно, ну, может, навощить слегка. Но ведь прекрасная старинная вещь, верно? – с теплотой сказал он, проводя пальцем по боку сундука. – Смотри, как изогнута ножка, какое зернение, какой рисунок дерева – видишь, вот тут завиток и вот тут, как аккуратно они подогнаны?
– Вы его разберете?
Сам Хоби считал такой шаг нежелательным, но я обожал это хирургическое действо с расчленением мебели и ее сборкой с нуля – работать надо было быстро, пока не схватился клей – как будто вырезать аппендикс пациенту на борту корабля.
– Нет, – он постучал по сундуку костяшками пальцев, приложив к дереву ухо, – так-то он вроде целый, но здесь вот ходовый рельс поврежден, – сказал он, выдвигая ящик, который взвизгнул и застрял. – Вот что бывает, если доверху набить ящик всяким хламом. Рельс мы починим, – он вытянул ящик наружу, морщась от скрипа дерева по дереву, – состругаем те места, где заедает. Видишь, вот здесь загиб? Лучший способ его починить – выровнять паз, тогда он станет шире, но думаю, что на полозья “ласточкин хвост” нам разбирать не придется, помнишь, как мы тот, дубовый, чинили, да? Но, – он провел пальцем по краю ящичка, – с красным деревом немного другая история. И с орехом тоже. На удивление часто дерево снимают с тех мест, с которыми вообще никаких проблем нет. С красным деревом так часто бывает – у него зерно такое плотное, у старого в особенности, что стругать нужно, только когда без этого уж совсем никак не обойтись. А тут мы на рельс нанесем немножко парафина, и будет как новенький.