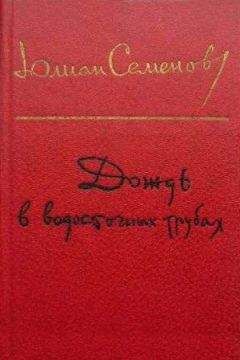Джером Сэлинджер - Собрание сочинений
Но будет ли с моей стороны необдуманно сообщить читателю, чем я намерен заниматься, с завтрашнего вечера начиная? Лет десять или больше я мечтал, чтобы кто-нибудь без особой тяги к кратким, четким ответам на лобовые вопросы спросил бы у меня: «А Как твой брат Выглядел?» Короче — такой писаниной, «чем-то, чем угодно», с коей, как подсказывает мой рекомендованный авторитетный орган, мне больше всего понравится свернуться калачиком, — полным физическим описанием Симора, кое предпримет тот, кого не подпаливает спешка побыстрее скинуть эдакую обузу, а говоря должным образом бесстыдно — я.
Волосы его прыгают по всей парикмахерской. Настал Завтрашний Вечер, и я тут сижу, надо ли говорить, в смокинге. Волосы его прыгают по всей парикмахерской. Господи Иисусе, это у меня первая строчка? Эта комната что — наполнится медленно-медленно кукурузными оладьями и яблочным пирогом? Запросто. Мне в это верить не хочется, но она может. Стоит в описании надавить на Разборчивость — и я завяжу с ним напрочь, даже не начав. Я не могу отсортировывать, не могу сутяжничать с этим человеком. Могу только надеяться, что хотя бы в чем-нибудь тут поможет беглый здравый смысл, но давайте я в кои-то веки не буду проверять каждую дурацкую фразу, или я опять все брошу. Его прыгучие волосы в парикмахерской — абсолютно первейшее, что приходит в голову. Обычно мы ходили стричься каждый второй эфирный день, иначе — раз в две недели, сразу после уроков. Парикмахерская находилась на углу 108-й и Бродвея, гнездилась цветуще (а ну прекрати) между китайским ресторанчиком и кошерной закусочной. Если мы забывали пообедать или, что вероятнее, теряли свой обед, иногда мы покупали центов на пятнадцать нарезки салями, пару свежих корнишонов и ели их прямо в креслах — ну, пока не начинали падать волосы. Парикмахерами были Марио и Виктор. Вероятно уже — ведь сколько лет прошло — скончались от передозы чеснока, обычно рано или поздно так и бывает со всеми нью — йоркскими парикмахерами. (Ладно, кончай. Просто постарайся, будь добр, придушить эту дребедень в колыбельке.) Кресла наши стояли вплотную, и когда Марио заканчивал со мной и готов уже был отчалить и стряхнуть эту свою матерчатую накидку, я неизменно всякий раз обнаруживал на себе больше Симоровых волос, чем своих. Очень немногое в жизни, как до, так и после, бесило меня сильнее. Лишь единственный раз я на это пожаловался — и в том неимоверно просчитался. Сказал что-то — отчетливо паскудным голоском — насчет его «чертовых волос», которые на меня вечно напрыгивают. И в тот же миг пожалел, но слово не воробей. Он ничего не ответил мне, но тут же запереживал. По пути домой, когда мы молча переходили через дороги, становилось все хуже; он, очевидно, размышлял, как воспретить волосам прыгать на его брата в парикмахерской. Последний отрезок к дому по 110-й, долгий квартал от Бродвея к нашему зданию на углу Риверсайд был хуже всего. Никто в семье не мог так переживать этот участок, как Симор — если у Симора имелся Достойный Материал.
Довольно для одного вечера. У меня нет сил.
Вот только еще одно. Чего же я хочу (курсив мой) от описания его внешности? Больше того: чего описанию этому, по-моему, следует добиться? Я хочу, чтобы оно добралось до журнала, да; опубликовать его хочу я. Однако не в этом штука — публиковаться я всегда хочу. Штука здесь скорее в том, как я желаю подать его в журнал. Да только в этом и штука. По-моему, я знаю. Прекрасно знаю, что знаю. Оно должно туда добраться так, чтобы я не прибегал ни к маркам, ни к манильскому конверту. Если это описание истинно, я ему только суну денег на поезд, ну еще, может, бутерброд и налью чего-нибудь горячего в термос, и все. Остальные пассажиры в вагоне чуточку от него отодвинутся, как будто оно под мухой. О изумительная мысль! Пусть Симор здесь будет под мухой. Но под какой мухой? Такая муха, пожалуй, бывает у тех, кого любишь, когда они поднимаются на веранду, ухмыляясь, ухмыляясь после трех трудных сетов в теннис, в триумфальный теннис, чтобы спросить, видел ли ты их последний удар. Да. Oui.
* * *
Другой вечер. Не забудь, это станут читать. Скажи читателю, где ты. Будь дружелюбен — поди угадай. Само собой. Я в оранжерее, только что позвонил, чтоб подавали портвейн, и с минуты на минуту его внесет старый лакей семейства, исключительно разумный толстый и гладкий мышак, который подъедает в доме все, опричь экзаменационных работ.
Возвращаюсь к волосам С., поскольку они уже на странице. Пока они не стали выпадать — лет в девятнадцать, клочьями, — у него были очень жесткие черные волосы. Подмывает сказать — почти курчавые, но не совсем; мне кажется, я бы все же решился их так назвать, если б они курчавились. То были крайне тягабельные волосы, и тягали за них почем зря; младенцы в семье тянулись к ним машинально — еще прежде носа, который, бог свидетель, тоже был Видный. Но всему свое время. Очень волосатый человек, юноша, подросток. Прочих детишек в семье, не исключительно, однако особенно мальчиков, множество еще не половозрелых пацанов, которых у нас в доме всегда бывало как — то полно, зачаровывали его запястья и кисти. Мой брат Уолт лет в одиннадцать исполнял такой номер: смотрел на запястья Симора и приглашал его снять свитер:
— Сними свитер, эй, Симор. Давай, ну? Тут же тепло. — С. сиял ему в ответ улыбкой — отсвечивал ему. Такие дурачества детишек — кого угодно — он любил. Я тоже, но лишь время от времени. Ему же нравилось неизменно. И он расцветал, поигрывал мышцами от бестактных или скоропалительных реплик, адресованных ему домашней мелюзгой. В 1959 же году, когда временами до меня доносятся раздражающие известия о деяньях моих младших брата и сестры, я припоминаю, сколько радости они доставляли С. Помню Фрэнни года в четыре — она сидела у него на коленях верхом и говорила с невообразимым восхищением:
— Симор, у тебя зубы такие красивые и желтые! — Он буквально повалился на меня, спрашивая, слышал ли я, что она сказала.
Одно замечание в последнем абзаце останавливает меня намертво. Почему дурачества мелюзги нравились мне только время от времени? Вне сомнений, порой в них сквозила немалая толика злого умысла, коли направлены они бывали на меня. Вполне вероятно, я такого и заслуживал. Что, интересно, читателю известно о больших семьях? Еще важнее: много ли он такого выдержит — в моем-то изложении? Как минимум, я должен сказать вот что: если вы старший брат в большой семье (особенно такой, где, как у Симора с Фрэнни, разница в возрасте — лет восемнадцать), и вы либо ставите себя, либо без должного внимания к вам ставитесь местным гувернером или наставником, почти невозможно при этом не стать и надзирателем. Но даже надзиратели бывают особых форм, размеров и цветов. Например, когда Симор велел одному из двойняшек, или Зуи, или Фрэнни, или даже мадам Тяпе (которая была лишь на два года младше меня и часто вполне себе Дама) снимать галоши, входя в квартиру, все и каждый знали: он главным образом имеет в виду, что иначе они натопчут и Бесси придется идти за шваброй. Когда же я велел им снимать галоши, они понимали, что я преимущественно хочу сказать: кто галоши не снимает, тот свинтус. Потому и дразнили нас с ним порознь, да и доставали совершенно особняком. Исповедь, со стоном слышу я, которую нельзя не заподозрить в Искренности и Заискивании. Ну что тут поделаешь? Мне что, всё прекращать, едва в мой голос вкрадется интонация Святой Простоты? Неужто не могу я рассчитывать на читательское понимание: я не стал бы умалять свои заслуги — в данном случае подчеркивать свои дурные руководящие качества, — если бы не был уверен, что меня в этом доме гораздо больше, чем просто терпят? Поможет вам, если я еще раз напомню свой возраст? Сейчас мне сорок седовласых, обвислозадых лет, у меня внушительное пузо и, я надеюсь, кое-какие соответствующе внушительные шансы не швырять серебряную чайную ложечку на пол из-за того, что в этом году не попаду в баскетбольную команду или недостаточно четко козыряю, чтобы меня взяли на Курсы подготовки офицерского состава. Кроме того, никогда, вероятно, не писано исповедальных пассажей, которые не смердели бы слегка гордыней автора от того, что он отказался от гордыни. Всякий раз при публичной исповеди следует прислушиваться к тому, в чем автор не исповедуется. В определенный период жизни (обычно, как ни прискорбно сообщать, в успешный период) человек может вдруг ощутить, что Властен признаться, как сдирал на выпускном экзамене в колледже, — он даже может соизволить и признать, что между двадцатью двумя и двадцатью четырьмя годами был импотентом, но сии отважные исповеди сами по себе не дают гарантий, что мы выясним, разозлился ли он некогда на своего хомячка так, что наступил ему на голову. Жаль распространяться об этом дальше, но мне кажется, что основания для беспокойства у меня есть. Я пишу о единственной известной мне личности, которую — на своих условиях — считал поистине крупной, о единственной личности вообще любых существенных пропорций, которая никогда не давала мне ни малейшего повода заподозрить ее в том, что у нее тайно заначен целый чулан шаловливых, утомительных маленьких тщеславий. По-моему, ужасно — да что там, зловеще — даже вынужденно задаваться вопросом, не становлюсь ли я на этой странице популярнее его. Вы меня, быть может, простите за то, что я так говорю, но не все читатели умелы. (Когда Симору было двадцать один, он почти стал профессором с докторской степенью по филологии и преподавал уже два года, я спросил, что его угнетает в преподавании — и угнетает ли что-нибудь вообще. Он ответил, что его, в общем, наверное, ничего не угнетает в преподавании, но одна штука вроде бы пугает: чтение карандашных пометок на полях книг в библиотеке колледжа.) Конец близок. Не все читатели, повторяю, умелы, и мне говорят — критики говорят нам всё, и худшее — в начале, — что я как писатель располагаю множеством поверхностных чар. Я всей душой боюсь, вдруг найдется и такой читатель, который отыщет некую притягательность в том, что я дожил до сорока; т. е., в отличие от Другой Личности на странице, не был достаточно «себялюбив», чтобы покончить с собой и тем самым бросить Любящее Семейство на произвол судьбы. (Я сказал «конец близок», но мне он все же не дается. Не потому что я не поистине железный человек: просто для того, чтобы закончить как надо, мне придется затронуть — боже мой, тронуть — подробности его самоубийства, а я не рассчитываю, что при моей скорости буду готов к этому в ближайшие несколько лет.)